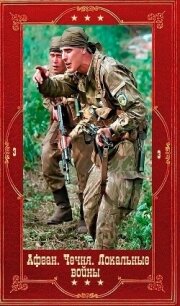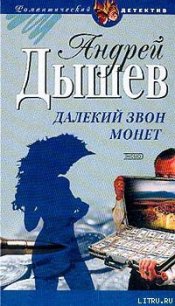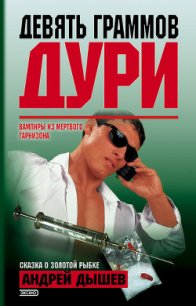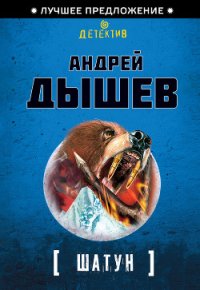Серия "Афган. Чечня. Локальные войны". Компиляция. Книги 1-34 (СИ) - Беляев Эдуард Всеволодович
– Да, – отозвался задумчиво Валера. Чувствовалось, что он устал, поэтому был немногословен. – Война порождает не только геройство, но и самые подлые вещи.
– Вот это меня всегда поражало, – запальчиво продолжил Николай. – Почему такой контраст? Идет из последних сил, стиснув зубы, делает все, что прикажет командир, – и тут же преображается, когда видит тряпки, деньги… Война – это грязь.
Донских достал сигарету, встал, подкурил от светильника, протянул пачку Валерию: «Закуривай». Они затянулись «Столичными».
– Табак хорошо подсушен, – заметил Глезденев.
– Специально перед операцией сушил… Вот еще один случай. Однажды взяли пленных. Двоих во втором батальоне, и еще двоих – в первом. Командовал операцией начальник штаба подполковник Яренко. Наш штаб, все управление дивизии находились на одном берегу канала, а батальон – на другом. И вот ночью по рации передали, что пленных надо немедленно доставить в штаб. Выехали. Доезжаем до моста, а мост через канал взорван. Доложили ситуацию и вернулись обратно. Бойцы наши связали пленных – двух стариков, – и так они всю ночь просидели. Утром вижу картину, от которой меня передернуло. Сидят эти несчастные старики, руки у них черного цвета, кровавые рубцы, окровавленные бинты. Подхожу к старшему: «Что же вы, варвары, делаете? Тебя бы самого так связать!» – «Что, что такое?!» – он не понял, глаза вытаращил. «Вы посмотрите, – говорю, – у него же руки черными стали. Судить вас надо…» Солдат растерялся, разрезал веревки, вернее, чалмами они были связаны. Потом подходит: «Товарищ старший лейтенант, они вчера трех человек наших положили. Ранили командира роты и солдат. Вот эти самые». – «Ну нельзя же так с пленными обращаться. Есть же ХАД, есть власти свои, пусть сами наказывают. Мы не имеем права так с ними обращаться», – говорю ему. Потом их в ХАД повезли. А там, ясно, замучили до смерти.
– Я слышал, что «хадовцы» – народ крутой? – заметил Глезденев.
– «Душман, душман…» Улыбается, вроде человека родней нет, – усмехнулся Донских, – а сам кулаком или нож в позвоночник всаживает. И улыбается… А наши бойцы – они ведь знают, как с нашими в плену обращаются. На куски режут. Легче всего, конечно, рассуждать о жестокости войны где-нибудь в Ташкенте, в Москве, попивать кофеек, разглагольствовать о гуманизме. А здесь все по-другому. В прошлую командировку видел, колонна пришла, раненые, убитые, стаскивают тела, всё в крови…
Коптилка замигала и вдруг погасла. Николай чиркнул спичкой. Все уже давно спали.
– Ну что, пора, наверное, отбиваться? – зевнув, сказал Глезденев.
– Тут какие-то деревянные полати. – Донских зажег еще одну спичку. – Надо только это тряпье выбросить…
Заснули мгновенно…
Был я в Юмьяшуре зимой, приехав по приглашению родителей Валеры. В Можге поезд притормозил на минуту или две, я спрыгнул на землю. Ко мне тут же подошел маленький старичок в полушубке и зимней шапке с козырьком:
– Дышев? – быстро спросил он.
Я кивнул, догадавшись, что это Василий Трофимович. Рядом стоял младший брат Валеры, Леня, коренастый мужчина лет тридцати. Сели в видавший виды «москвичок» и бодро покатили по заснеженной накатанной дороге… Вокруг простирались холмы, безмолвные черные леса.
Остановились у большой избы-пятистенки. Встречали нас мать Валеры Марфа Николаевна, невестка Лида, трое внуков. Вошли в сенцы, поднялись по крутой, как принято строить в здешних местах, лестнице в десяток ступеней. Убранство, обстановка в избе были самые простые. Кровати, стол, телевизор, шкаф. В углу – портрет сына Валеры в майорской форме. Посадили меня на почетное место в центре, положили кыстыбей – блины с картофелем, предварительно расстелив на столе один блин, как положено по обычаю. Стоя подняли тост за Валеру, передавая по очереди стаканчик друг другу – опять же по традиции…
Наутро мы пошли в соседнее село Варзи-Ятчи, в школу, где учился Валера, встретились с учителями и учащимися. Был там класс-музей Глезденева, огромный портрет, нарисованный местным художником. Мы встречались с друзьями Валеры и немало отмахали по ядреному морозному снегу. Погода в те дни выдалась устойчивая, веселая, под минус тридцать. Леня уезжал на работу в школу, где он преподавал, а мы же с Василием Трофимовичем посетили местную достопримечательность – Варзи-Ятчинский грязелечебный курорт, заходили в магазин, на почту. У знакомых слегка подогревались кумышкой – некрепкой горячей самогонкой с характерным запахом дымка, закусывали салом, солеными огурцами, гречневой кашей с кровью.
Вечером семья собиралась на ужин, Леня играл с детьми «в Чапаева» или возился с «Москвичом». А Марфа Николаевна своим негромким голосом рассказывала о Валере. Я слушал эту простую удмуртскую женщину, вырастившую трех сыновей и двух дочерей и теперь воспитывающую еще и внуков, смотрел в добрые глаза ее, глубокие, печальные и наполненные той особой духовностью, которая не зависит от образованности, но которая так естественна и характерна для людей, много повидавших и переживших на своем веку и которым судьба уготовила удел больше источать любовь, нежели получать ее, всегда заботиться, печься о ком-то, забывая о себе.
– Родился Валера на Новый, 1950-й, год, 1 января. Боевой был, выдумщик. Помню, неурожай был, пустой год. И вот, скоро апрель, а кушать уже нечего. На трудодни хлеба мало получили. Третий день картошку и капусту ели. «Мама, – говорит мне, – не плачь. Когда ты плачешь, и мне хочется плакать». Аркадий, старший мой, стоит молча рядом, слушает. А Валера говорит: «Когда я вырасту большой, очень большой буду, – летчиком стану. Самолет у меня будет. Прилечу к вам и сброшу целый мешок пшеницы». Аркадий насмехается: «Пока мешок твой подберут, тети Нади куры прибегут и все склюют!» Валерка думал-думал: «А у меня мешок железный будет!» Сметливый был. Копаем картошку, а у него и тут своя выдумка. «Трудно очень лопатой копать. Надо посадить такую картошку, чтобы можно было собирать, как помидоры. А то устаем сильно – лопатой копать».
В школу пошел – учился хорошо. Мы любили ходить на родительские собрания – всегда с радостью: Валерку хвалили, говорили о нем по-хорошему. А когда он ходил в четвертый класс, у него уже четыре заметки в районной газете напечатаны были.
А за работу в районной редакции, писал по– удмуртски статейки, имел подарок – будильник, и грамоты – тринадцать штук, за все это время…
За чаем шел неспешный разговор, чисто по– крестьянски размеренный, основательный – вдумчивые вечерние беседы…
К сумеркам разыгралась метель, в синем окошке металась снежная крупка, а в избе было так уютно и тепло, что дети резвились в одних маечках и трусиках. Сонно мигал экран телевизора, его никто не слушал, и все мировые конфликты, национальная вражда, парламентские перепалки казались здесь далекими и чуждыми. Зимним беседам некуда торопиться…
– Отец Василия Трофимовича, – продолжала рассказывать Марфа Николаевна, – в германскую войну семь лет воевал, сразу, как в четырнадцатом призвали. Три брата у них воевали: Трофим, Лаврен, Петр. Петра потом убили. Жаль, фотографии нет, все в огне пожара сгорело… Да, дядька еще у них воевал в 1905-м в Маньчжурии. Во Вторую мировую тоже трое воевали, уже другое поколение, братья: старший – наш Василий Трофимович, Аркадий и Николай Трофимовичи. Аркадий на Ленинградском фронте погиб, похоронен в братской могиле у дороги, возле реки Копра… Вот и мне выпало в мирное время стать матерью погибшего солдата. – Она вздыхает и задумывается…
Какая роковая закономерность: в каждом поколении воевали три брата, и один из них обязательно погибал. И вот почти через сорок лет после войны история, будто повинуясь жестокой предопределенности, повторяется. Смерть, словно требуя дани, опять забирает одного из трех братьев Глезденевых. Предполагал ли, остерегался ли Валерка, зная и помня, несомненно, страшную, роковую последовательность в судьбах трех братьев разных поколений… Помните, как в детстве загадал желание стать летчиком? И действительно – надел заветные авиационные эмблемы. Только в железном мешке – цинковом гробу – привезли на самолете его самого. …А на полу разгорелся настоящий бой: летят, катятся в разные стороны шашки, внуки в азарте. Продолжается игра «в Чапаева». Младший, Валерка, неунывающий пострел, неугомонный, характером весь в своего тезку, старший, Коля, – уже школьник. Назвали его тоже в память о погибшем брате – брате снохи Лиды. Погиб он в армии. Бросился под машину, чтобы оттолкнуть товарища, а сам отскочить не успел… И в ее, Лидиной, родословной линии тоже немало вех, отмеченных скорбным знаком павших в боях за Родину родственников. А внуки, пока не подозревающие о генезисе прошлых родословных, которые сплелись и соединились в них, юных потомках, жили своей игрушечной войной. Могучие родословные несли в своей исторической памяти многие поколения многих людей, которые, если пробивал час, вставали за Отечество и грудью защищали его в смертельной схватке.
Похожие книги на "Серия "Афган. Чечня. Локальные войны". Компиляция. Книги 1-34 (СИ)", Беляев Эдуард Всеволодович
Беляев Эдуард Всеволодович читать все книги автора по порядку
Беляев Эдуард Всеволодович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.