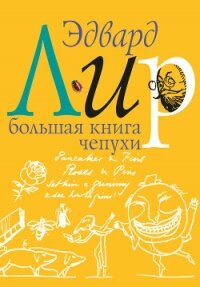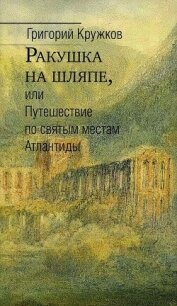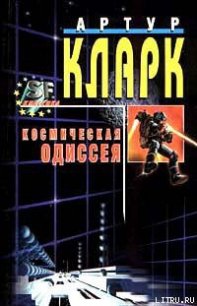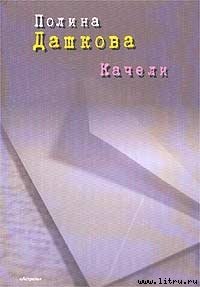Эдвард Лир
Большая книга чепухи
© Г. М. Кружков, составление, предисловие, комментарии, 2021
© Г. М. Кружков, переводы, 1990, 2001, 2003, 2010
© М. Я. Бородицкая, перевод, 2010
© И. Б. Комарова, переводы, 2010
© Д. В. Крупская, переводы, 2008, 2010
© Д. Н. Смирнов, перевод, 2010
© С. Любаев, художественное оформление, макет, 2021
© Издательство Ивана Лимбаха, 2021
Рисунки Эдварда Лира и художников его времени
* * *
Григорий Кружков
Под парусом бессмыслицы: Одиссея Эдварда Лира
Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна
Александр Введенский
Главное свойство шута можно, наверное, обозначить так – ветер в голове. Ветер, который начисто выдувает здравомыслие, срывает вещи с мест и перепутывает их как попало, перемешивает мудрость с глупостью, переворачивает все вверх ногами и переиначивает скучную рутину обыденности. Без такого вечного сквозняка невозможно искусство дуракаваляния и веселого шарлатанства.
Такой ветер гулял и в голове Эдварда Лира – великого Короля Нонсенса, несравненного Гения Нелепости и Верховного Вздорослагателя Англии (таковы лишь некоторые из заслуженных им громких титулов). Безусловно, он происходил по прямой линии от Джона Скельтона и Уильяма Соммерса, шута Генриха VIII, от знаменитых дураков Шекспира – зубоскалов и пересмешников, неистощимых на выдумки и каламбуры, но способных и неожиданно тронуть сердце пронзительно грустной песенкой под аккомпанемент лютни. Лир тоже сочинял и пел песни – и трогательные, и забавные. По сути, он и был шутом, – если забыть о лирической стороне его таланта, о нешуточном трудолюбии и упорстве, о трагической подоплеке его судьбы.
На одном из своих рисунков он изобразил себя в виде «перекати-поля», свернутого колесом и катящегося куда-то напропалую. Так примерно его и носило всю жизнь по свету – от Англии до Египта, от Греции до Индии. Как при этом он умудрялся всюду таскать с собой свои карандаши и краски, холсты и альбомы, да не растерять их по дороге, – загадка. На других рисунках (их множество) он изображает себя почти в шарообразном виде – сходном то ли с пузырьком любимого им шампанского, то ли с воздушным шаром. Летучесть, легкость его дара. Наверное, и о его смерти можно сказать, как о воздушном шаре: улетел.
Эдвард Лир, поэт и художник, знаменит, прежде всего, своими «книгами нонсенса». Когда первая из них (The Book of Nonsense, 1846) была опубликована под псевдонимом «Дерри из Дерри», публика не сразу ее распробовала. Но, распробовав, захотела еще и еще. Пошли переиздания. Книгу затрепывали в клочья – и затрепали: кажется, даже Британская библиотека не располагает самым первым изданием.
Откуда же взялся этот эксцентричный «дядюшка Дерри», ведущий за собой хоровод приплясывающих ребятишек? Все началось в 1830-х годах в имении графа Дерби, где молодой Лир жил в качестве художника-анималиста. Как-то само собой обнаружилось, что Эдвард замечательно умеет смешить малышей, рисуя картинки и делая к ним подписи в стихах. Вскоре он стал общим любимцем семьи. Однажды кто-то из гостей графа Дерби, зная пристрастия художника, подарил ему старую и довольно редкую книжицу «Приключения пятнадцати джентльменов». Оттуда Лир и почерпнул форму своих знаменитых лимериков – то есть он не сам их изобрел, а лишь усовершенствовал и пустил в оборот. Кстати, Лир никогда не звал лимерики лимериками, а лишь нонсенсами, – нынешнее название установилось лишь в конце XIX века и происходит оно от Лимерика – города в Ирландии, где такого рода стишки, как говорят, издавна складывались за чаркой вина. Каковы же были эти протолимерики? Скажем, такие (в буквальном переводе без рифмы и размера): «Жил один больной человек из Тобаго, / Питавшийся исключительно рисом и саго; / Пока – о счастье! – / Его врач не сказал: / "Можете переходить к жареной бараньей ноге"».
Что тут смешного? Во-первых, нестыковка эпического начала «Жил один больной человек из Тобаго» – и скоропалительного финала Во-вторых, энергичный ритм с «приплясом» в укороченных строках. В-третьих, каламбурная рифма: «Тобэйго, сэйго, ю-мэй-го («можете переходить»). Наконец, если вдуматься, само содержание лимерика тоже довольно познавательно. Это вам не какое-то:
Расскажу вам про гуся.
Вот и сказка вся.
В лимерике найдена золотая середина между растянутостью романа и чрезмерной краткостью пословицы. Конструкция такова. В первой строке появляется герой (или героиня), с непременным указанием на место жительства, во второй – даются его (ее) свойства или что он(а) свершил(а). Причем второе определяется первым! Если наш герой из Тобаго, то он должен есть саго. Если, скажем, из Кельна – огурец малосольный. Дама из Салоников не может обойтись без поклонников, а леди из Атлантики просто обязана носить бантики. И прочее в таком духе. Герой лимерика, как он ни свободен совершать любые глупости, все-таки чем-то связан – но не пошлой логикой жизни, а рифмой.
Далее, в третьей и четвертой строке лимерика совершается то, что Аристотель называет перипетиями. Герой совершает некие поступки, зачастую опрометчивые, и обыкновенно успевает пожать плоды этих поступков. Здесь-то и появляются «они», «другие». Олдос Хаксли в своем блестящем эссе о Лире впервые исследовал этих странных персонажей. Впрочем, ничего особенно странного в них нет. Это законопослушные, хотя и недалекие люди, свидетели удивительных деяний героя. Порой они просто изумлены, порой задают всякие неуместные вопросы. Но бывает, что ведут себя и похуже: злорадствуют, изгоняют из родного города, а то могут и побить любым рифмующимся предметом. «В большинстве своем лимерики, – пишет Хаксли, – не что иное, как эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между гением и его ближними».
Почему же чопорные (как мы их представляем) викторианцы так полюбили «книги нонсенса»? А потому, что и сам эксцентричнейший мистер Лир был викторианцем до мозга костей. Он, между прочим, давал уроки рисования самой королеве Виктории! Он настолько любил поэта-лауреата Альфреда Теннисона, что писал романсы на его стихи и вдохновенно исполнял их в обществе, аккомпанируя себе на фортепьяно.
Лучшие стихи Лира – органическая часть большой романтической традиции английской литературы. Неповторимый причудливый колорит, который создан в «Джамблях» и других великих балладах Эдварда Лира, никак не отменяет того, что эти стихи, по сути своей, совсем не пародийны. В них слышен пафос предприимчивости и стойкого мужества – что, вкупе с учтивостью и чувством юмора, составляет почти полный набор викторианских добродетелей. Неизбывная романтическая грусть и – вопреки всему – вера в победу духа над косными обстоятельствами жизни.
Возьмите знаменитые его стихи о «джамблях». Сюжет, если попробовать изложить его в прозе, таков.
В один из погожих дней 19** года из гавани N отчалило небольшое одномачтовое судно. Водоизмещение его, к сожалению, точно неизвестно: длина корпуса… достоверно можно сказать лишь то, что длина равнялась ширине, по причине его абсолютной округлости.
И уплыли, уплыли они брешете,
В решете они в море уплыли,
Ветер дул им то в лоб,
То в затылок, то в бок,
И холодные волны бурлили.
И то боком, то скоком неслось решето.
– Воротитесь назад! – им кричали. —
Вы погибнете там, без зонта, без пальто!
– Фигли-мигли! – они отвечали.