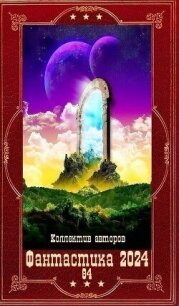«Доктор Живаго» как исторический роман - Поливанов Константин Михайлович
Времена декабристов (первенцев свободы) и славянофилов (первенцев русской мысли) так же домашне историчны, как пора отрочества Дмитрия Самарина, которого отец дома обучал латыни, а экзамены он сдавал экстерном в 5-й московской гимназии, где учился Пастернак (подробнее см. [Поливанов 2006: 43–61]).
В «Старом парке» Пастернак разворачивает фантастический сюжет, отменяя вовсе или достраивая твердо известные ему печальные факты. Самарин умер в 1921 году, но двадцать лет спустя мы видим в родовом гнезде, ставшем госпиталем, то ли его, воскресшего из небытия в первые месяцы войны (при этом о советском прошлом раненого не говорится ни слова!), то ли его сына (которого у реального Дмитрия Самарина не было). В самом начале войны на передовой мог оказаться и пятидесятилетний из «бывших», и двадцатипятилетний сын затерявшегося в советской провинции аристократа. В таком случае понятнее неожиданное узнавание дома (виденного прежде издали или опознанного по рассказам) и строка «Вот он снова в этом парке» (где — в отличие от дома — ныне повзрослевший мальчик мог побывать). От грез о родовом (российском) прошлом (1812 год, декабристы, славянофилы, предреволюционное отрочество отца) герой переходит к мечтам о будущем — издании сочинений Ю. Ф. Самарина (воскрешении предка и продолжении семейного дела) и сочинении «вдохновленной войной» пьесы. Пьеса, которая видится раненому «Самарину» (избежавшему смерти в 1921 году Дмитрию или его сыну), должна восстановить историческую «ясность».
Герой «Старого парка» ставит перед собой ту задачу, которая будет решена стихотворениями Юрия Живаго и романом об их рождении, то есть о жизни и судьбе их автора:
Оба прочтения «Старого парка» (возможно, и подразумевавшиеся поэтом как равноправные) выводят к замыслу, которым автор поделился с персонажем.
В конце августа 1941 года Пастернак подал заявку на пьесу, в которой должен был отразиться «нынешний и ближайший будущий опыт московской обороны» [Пастернак: II, 419]. Связь «Старого парка» с пьесой, над которой Пастернак работал весной — летом 1942 года [185], в свою очередь оказавшейся ступенью к «Доктору Живаго», зафиксирована в недавней биографии поэта [Быков: 604–607]; ср. также комментарии в [Пастернак: V, 570–571]. По дошедшим до нас эпизодам и по свидетельствам современников ясно, что для этой пьесы в равной мере важны и тема восстановления прошлого (единства истории), связанная с фигурами пожилых интеллигентов (Гордона и Дудорова, существенно отличных от своих «однофамильцев» в романе), и тема юности, по-разному расплачивающейся за революционное прошлое и грехи отцов (линия Груни Фридрих, предшественницы романной Христины Орлецовой; рассказ Друзякиной, ставший рассказом Таньки Безочередевой).
Таким образом, «самаринское» стихотворение оказывается важным смысловым «зерном» будущего романа. Мы полагаем, что это касается не только историософского, но и сюжетно-персонажного уровня «Доктора Живаго».
Один из наиболее тонких первых интерпретаторов романа предположил, что Пастернак ввел в очерк «Люди и положения» рассказ о судьбе Дмитрия Самарина для того, чтобы читатели «Доктора Живаго» узнали о «ситуативном» прототипе романного героя [Франк: 206]. Соглашаясь с В. С. Франком, следует ответить на вопрос: был ли намек Пастернака только благородным человеческим жестом (напоминанием об одном из многих «безвременно умерших») или автору «Доктора Живаго» было нужно подвести читателя к смыслу конкретного эпизода (прибытие доктора в Москву), рассекретив его генезис? Полагаем, что дело обстояло именно так. При этом, предлагая читателю увидеть в Живаго — Самарина, Пастернак одновременно отсылал и к «самаринскому» фрагменту «Охранной грамоты», в романе полемически переосмысленному.
Как было сказано выше, в «Охранной грамоте» Самарин сопоставляется с толстовским Нехлюдовым и с Лениным. Живаго, как подчеркнуто в романе, «пришел в Москву в начале нэпа, самого фальшивого и двусмысленного из советских периодов». Ниже, в 5-й главе «Окончания», возникнет кажущийся избыточным повтор: «Доктор с Васею пришли в Москву весной двадцать второго года, в начале нэпа». Здесь прозвучавшие пейоративы опускаются, место их занимает жестко и брезгливо прописанная картина ложного процветания: «Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению» [Пастернак: IV, 463, 470–471]. Немногим раньше (в 1921 году) вернулся в Москву Дмитрий Самарин, которому уподоблен Живаго:
Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена <…> на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы [Пастернак: IV, 463].
«Опростившийся и всепонимающий» [Там же: III, 323–324], Самарин умирает сразу. Смерть Живаго, о которой сообщается в первом же предложении «Окончания», отложена на несколько лет. «Восемь или девять» — если довериться нарочито неопределенному «свидетельству» из первой главы, в котором может иметься в виду еще и время, затраченное на дорогу в Москву [Там же: IV, 463]; семь — если датировать, как принято, конец доктора 1929 годом. В любом случае это время нэпа, дважды в «Окончании» прямо названного.
Введение нэпа было последним сильным политическим решением Ленина, которого Пастернак восхищенно слушал на Девятом съезде Советов в декабре 1921-го (года смерти Самарина) и воспел в финале «Высокой болезни», написанном, как и первая часть «Охранной грамоты» с «самаринскими» страницами, в 1929-м (год смерти Живаго). Былой смысловой треугольник «Ленин — Самарин — Пастернак» в «Окончании» романа сознательно уничтожается, как и треугольник «Нехлюдов — Самарин — Пастернак». В советском мире «опрощение» и «всепонимание» не могут спасти героя, маргинализации сопутствует не возрастание творческого начала, а его затухание, приближение к смерти, с которой не сумеет столковаться об отсрочке и ее амбивалентный посланник: Евграф спасавший старшего брата не раз, но не в 1929 году — логичном следствии (а не отрицании) сворачиваемого нэпа.
В апреле 1959 года брюссельский профессор А. Деман задал в письме Пастернаку вопрос о сходстве историй Самарина (в «Людях и положениях») и Живаго. 9 апреля Пастернак написал в ответ:
Прототипы героев «Доктора Живаго» действительно жили на свете, но герои сами по себе — видоизменения этих моделей. Ваше замечание о Дмитрии Самарине очень тонкое и точное. Его образ был передо мной, когда я описывал возвращение Живаго в Москву [Там же: X, 460].
Образ Самарина перед писателем «был», но важно, что существуют пастернаковские «герои сами по себе». Кроме понятной и общеизвестной мысли о различии жизни и литературы (автономии персонажей), здесь можно расслышать и указание на множественность прототипов. Мерцающее в поэте Юрии Живаго (а значит, и в его создателе) неповторимое лицо ничего не совершившего Дмитрия Самарина заставляет вспомнить и о многих других выходцах из прежнего мира (от побывавшего священником С. Н. Дурылина до радикального футуриста А. Е. Крученых), которые после революции оказались оттесненными на обочину и далеко не в полной мере исполнили то, что им было «поручено».
Похожие книги на "«Доктор Живаго» как исторический роман", Поливанов Константин Михайлович
Поливанов Константин Михайлович читать все книги автора по порядку
Поливанов Константин Михайлович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.