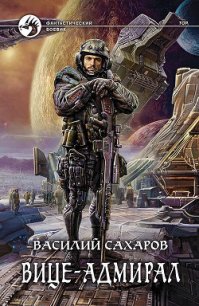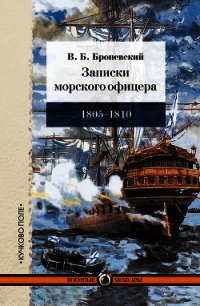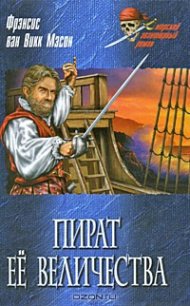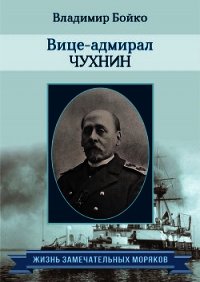И корабли штурмовали Берлин - Григорьев Виссарион Виссарионович
Многое решилось за эти часы. Сомнения насчет того, осилим ли бугскую трассу (а они появились у некоторых товарищей), отпали. Срочно потребовались тракторы — не «катеринками» же протаскивать сто кораблей! Четыре тягача отобрали у своих зенитчиков, еще четыре раздобыли в тылу и погрузили на очередной эшелон. И дело пошло веселее.
Первый большой перекат потом так и называли — Тракторный. Но тягачи (действовавшие иногда в «парной упряжке» — лошадиных сил одной машины хватало не везде) понадобились при форсировании еще более чем двадцати перекатов. Очень трудным оказался участок в районе местечка Брок: под слоем песка лежал каменный массив с множеством опасных выступов. Чтобы не пропороть днище корабля, который тянул катер, впереди шла его команда, держась за руки и ощупывая ногами грунт. «Живой трал!» — шутили матросы, подбадривая себя в студеной воде.
Люди работали самоотверженно. Постоянно мокрые, а просушиться, обогреться часто негде, но всех заботило одно — как бы поменьше царапать корабли да побыстрее вывести их к фронту.
Проводка и дальше давалась тяжело. Но если на начальных участках маршрута корабли преодолевали за сутки в среднем меньше километра (а при таких темпах мы не добрались бы до устья Нарева и к зиме), то потом среднесуточная скорость движения достигала 5–6 километров. Гидрографы научились точнее определять и обозначать курсовую линию, обычно не прямую, а причудливо изломанную, по которой выгодно было форсировать очередной перекат. Мы не отказывались и от углубления фарватера взрывами, особенно там, где был каменистый грунт. Не очень большие песчаные перекаты поддавались размывке гидромониторами (они прибыли из Киева со своими командами и немедленно были введены в действие).
Все просто ликовали, когда удавалось, расчистив фарватер всеми имевшимися средствами, провести корабли через какой-нибудь перекат самосплавом. Но и тогда легководолазы, а вместе с ними обычно и команда корабля, шли рядом в воде, не давая течению снести бронекатер или тральщик в сторону, посадить на мель.
Но как ни берегли корабли, текущий ремонт доставлял механикам не меньше забот, чем в боевую страду на белорусских реках. Особенно после тех перекатов, где вновь прибегали к волоку на тракторной тяге. Кораблей шло много, и не на одном, так на другом требовалось выпрямить вал или сменить винт, обследовать вмятины. Приходилось и заделывать небольшие пробоины. Словом, на войне как на войне.
Головной отряд 1-й бригады — мелкосидящие катера, которые задерживались лишь на самых трудных перекатах и почти не имели повреждений, — все более опережал остальные корабли. Но без бронекатеров, которым до Нарева было еще далеко, Лялько всерьез воевать не мог. А штаб фронта дважды подтвердил, что срок развертывания кораблей в новом районе боевых действий, названный маршалом Рокоссовским, — 15 октября — остается в силе. Там, однако, знали о наших трудностях, и в мое распоряжение был выделен 53-й Слуцкий отдельный мотопонтонный мостовой батальон 70-й армии.
Командовал батальоном майор Орецкий. Как выяснилось, мостовики умели не только наводить переправы, но и делать на реках многое другое, очень нужное нам. Однако через два-три дня двести бойцов батальона получили работу, заниматься которой им еще не приходилось.
На территории Польши флотилия продолжала получать, помимо московских газет, также и выходившие в Белоруссии. И вот из заметки в минской газете «Звязда» мне стало известно о старом речнике, обстановочном старшине Иване Петровиче Малявине, жившем недалеко от Пинска. Он, как говорилось в заметке, был большим мастером по части струенаправляющих запруд и успешно применял их для размыва перекатных отмелей на своем навигационном участке.
Специалист по струенаправляющим запрудам! Тем самым, секреты которых все еще не давались нашим гидрографам… Я телеграфировал капитану 1 ранга Блинкову, теперь старшему морскому начальнику в Пинске, личную просьбу — разыскать Малявина и от моего имени пригласить к нам на Буг, договорившись с кем надо, чтобы не чинили препятствий его отъезду.
Через день Иван Петрович, прибывший на связном самолете, сидел у меня на ФКП — коренастый, бородатый, с умными живыми глазами. Старик был знаком и с Бугом: бывал тут еще в дореволюционные времена и позднее, когда Западная Белоруссия находилась под властью Польши. Он обещал сделать все, что сумеет, научить наших людей всему, что знает.
Перекусив, Малявин отправился осматривать перекаты, форсирование которых кораблями с наибольшей осадкой было на очереди. А затем стал обучать моряков, назначенных ему в помощники (для начала двадцать человек), плести из ивняка особого рода плетни.
Но главное было в том, где и как плетни ставить. Иван Петрович делал много промеров, подолгу следил за игрой речных струй с берега или с лодки, сердито шагал по воде, размышлял. Поставив первые щиты, снова наблюдал за рекой, что-то поправлял, и только после этого запруду городили дальше.
Среди наблюдавших за тем, как дед «колдует», было немало скептиков — ведь пробовали все это и до него. Но Малявин оказался настоящим знатоком старинного способа поддерживать в судоходном состоянии обмелевшие реки. Изменения на фарватере происходили, конечно, не мгновенно, для этого требовалось известное время, но постепенно песок в нужных местах размывался и глубины там увеличивались. Оказывается, все-таки можно было заставить реку, так упорно сопротивлявшуюся проходу кораблей, работать на нас!
Скоро все убедились: запруды, поставленные как надо, — это сила. И на их сооружение переключили также и батальон майора Орецкого — работы было много. А Малявин, гордый порученным ему делом, с рассвета до потемок носился по Бугу на закрепленном за ним полуглиссере, успевая следить за работами на нескольких участках, лично проводя бесчисленные контрольные промеры и показывая, где ставить каждый плетеный щит.
О масштабах применения этого способа дает представление такая цифра: было поставлено более 13 километров плетнерешетчатых запруд. Они не стали каким-то чудодейственным средством, решавшим все наши проблемы, да и не на всех перекатах могли быть использованы. Но струенаправляющая «инженерия», такая простая на первый взгляд и такая хитрая, заняла почетное место в общем арсенале средств и приемов, обеспечивавших проход кораблей по Западному Бугу. И не раз я слышал:
— Пораньше бы нам заполучить этого деда!
— И мотопонтонный батальон тоже! — добавляли другие.
Проводив корабли через последний перекат, старый полесский речник отбыл на нашем связном самолете в родные края. За помощь, оказанную флотилии, он был награжден орденом Красной Звезды. С наградами возвращались в свою армию также майор Орецкий и многие бойцы его батальона.
На последних километрах было два участка с глубинами всего 30–35 сантиметров. Эти перекаты, хотя и короткие, заставили еще раз напрячь все силы, использовать все, что могло помочь продвижению кораблей. Но бугская эпопея днепровцев, которую Нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов назвал потом массовым подвигом, не имеющим примеров в практике речных флотилий, подходила к концу. 15 октября вся 1-я бригада кораблей — основная боевая сила флотилии — сосредоточилась вблизи линии фронта. Изготовленные к бою бронекатера и плавбатареи (последние прошли по Бугу в расчлененном виде: на одном понтоне само орудие, на другом — броневой щит) выводились в назначенные им районы огневых позиций.
Подходила к фронту и 2-я бригада, спущенная на воду на полмесяца позже. Ей было уже легче идти проторенным путем. Да и уровень воды стал повышаться — пошли наконец осенние дожди.
Лишь от проводки по Бугу двухбашенных бронекатеров, имевших слишком большую осадку, пришлось все-таки отказаться. Их, не спуская в Малкиной Турне на воду, вернули пока в Пинск.
Но и без них мы имели в строю 24 бронекатера — по дивизиону в каждой бригаде. А всего в бассейн Вислы прибыло 104 вымпела. Некоторые корабли приобрели к тому времени новые боевые качества, расширявшие возможности их использования. Отряд катеров ПВО (они, как уже говорилось, могли решать самые различные задачи), которым командовал капитан-лейтенант А. П. Исаев, был вооружен «катюшами» вместо 37-миллиметровых зенитных полуавтоматов, и эти катера мы стали называть минометными. На нескольких бронекатерах, побывавших на ремонте в Киеве, пусковыми установками для эрэсов заменили пулеметы. Инициатором (а также и непосредственным организатором) частичного перевооружения этих кораблей был начальник нашего орготдела Иван Григорьевич Блинков.
Похожие книги на "И корабли штурмовали Берлин", Григорьев Виссарион Виссарионович
Григорьев Виссарион Виссарионович читать все книги автора по порядку
Григорьев Виссарион Виссарионович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.