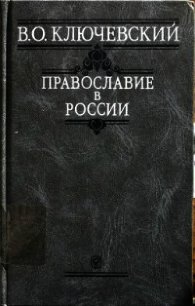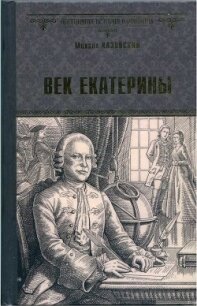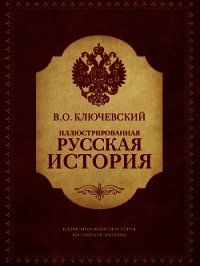Великая. История Екатерины II - Ключевский Василий Осипович
Напротив, в политике внешней Екатерина, как мы видели, была прямой последовательницей Петра Великого, а не мелких политиков XVIII в. Она сумела, как Петр Великий, понять коренные задачи внешней русской политики и умела завершить то, к чему стремились веками московские государи. И здесь, как в политике внутренней, она довела до конца свое дело, и после нее русская дипломатия должна была ставить себе новые задачи, потому что старые были исчерпаны и упразднены. Если бы в конце царствования Екатерины встал из гроба московский дипломат XVI или XVII вв., то он бы почувствовал себя вполне удовлетворенным, так как увидел бы решенными удовлетворительно все вопросы внешней политики, которые так волновали его современников. Итак, Екатерина – традиционный деятель, несмотря на отрицательное ее отношение к русскому прошлому, несмотря, наконец, на то, что она внесла новые приемы в управление, новые идеи в общественный оборот. Двойственность тех традиций, которым она следовала, определяет и двоякое отношение к ней потомков. Если одни не без основания указывают на то, что внутренняя деятельность Екатерины узаконила ненормальные последствия темных эпох XVIII в., то другие преклоняются перед величием результатов ее внешней политики. Как бы то ни было, историческое значение екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно потому, что в эту эпоху были подведены итоги предыдущей истории, завершились исторические процессы, раньше развивавшиеся. Эта способность Екатерины доводить до конца, до полного разрешения те вопросы, какие ей ставила история, заставляет всех признать в ней первостепенного исторического деятеля, независимо от ее личных ошибок и слабостей.
1917 г.
А.С. Лаппо-Данилевский
Екатерина II и крестьянский вопрос

Художник И.-Б. Лампи
<…> Вступая на престол, Екатерина Алексеевна сознавала, что «естественный закон повелевает ей заботиться о благополучии всех людей»; она стремилась поставить себе «общую цель» – «счастье своих подданных»; она интересовалась и историческими судьбами русского народа, и современным его состоянием; она не могла равнодушно отнестись и к тяжелому положению низших слоев населения, смутные ожидания которого обнаружились хотя бы в крестьянских волнениях, наступивших в то время в разных уездах [53].
В царствование Екатерины II крестьянский вопрос, т. е. собственно говоря, вопрос о том, как отнестись к крепостной зависимости человека от человека, действительно, получил гораздо большее значение: критерии его оценки стали выясняться; вместе с тем право дворян владеть крепостными, сосредоточившееся почти исключительно в их руках, уже не было обусловлено их обязательною службою, и крепостная зависимость стала все более приобретать частноправовой характер; принимая его во внимание [54], сама императрица поставила крестьянский вопрос и предала его гласному обсуждению русского общества.
При постановке крестьянского вопроса императрица Екатерина II должна была, конечно, выяснить себе те точки зрения, с которых он подлежал обсуждению. Нельзя сказать, однако, чтобы государыня придерживалась вполне однородных начал в своих взглядах и в законодательной политике: при обсуждении крестьянского вопроса в теории она обнаружила, особенно на первых порах, некоторую склонность принять во внимание общие принципы справедливости и права, но в своем законодательстве она руководилась и такими политическими соображениями, которые далеко не благоприятствовали окончательному его разрешению; все более считаясь с ними, она кончила тем, что, под влиянием реакции, сняла с очереди вопрос о крепостном праве и даже способствовала дальнейшему его развитию.
С точки зрения отвлеченных религиозно-нравственных и естественно-правовых начал, Екатерина Алексеевна рассуждала о свободе и рабстве уже в тех заметках, которые она делала для себя до вступления своего на престол; в духе либеральных идей своего времени, она, подобно Монтескье, писала, например, что все люди рождаются свободными и что «противно христианской вере и справедливости делать их невольниками» [55]. Вообще, придерживаясь взглядов подобного рода, императрица должна была прийти к мысли о крестьянской свободе и к отрицанию права человека распоряжаться человеком почти так же, как «скотом». Крепостной, по ее мнению, такой же человек, как и его господин: «если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию нам от всего света приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано» [56]. Итак, крепостной не только человек, но и «персона»: он должен быть лицом, наделенным правами: «естественная вольность» даже в среде крестьян должна подлежать возможно меньшим стеснениям. Впрочем, составительница Наказа могла подойти к аналогичному (в формальном смысле) заключению и на основании позитивно-правовой теории; следуя Монтескье, она писала: «равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам», а их свобода – в том, чтобы каждый из них имел возможность делать то, что ему «надлежит хотеть» [57]; но и с такой точки зрения вопрос о правомерности крепостного права вставал сам собою. Решение его должно было, очевидно, состоять в освобождении владельческих крестьян от «порабощения».
Сама императрица Екатерина II вряд ли могла, однако, остановиться на столь радикальной для ее времени постановке крестьянского вопроса: в большинстве статей Наказа, составленного под влиянием Монтескье и других писателей, а также в теме, предложенной Вольно-экономическому обществу, она высказывается гораздо менее решительно.
В проекте Наказа императрица, кажется, еще не оставила мысли о «воле» крепостных; одну из его статей она начала было со слов: «можно также установить, чтобы на воле…», но зачеркнула написанное, оставив только статью о том, что «законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества»; некоторые из ее предположений, например, об установлении в законе условий, ограничивающих поступление в крепостную зависимость и облегчающих ее прекращение, действительно, не получили дальнейшей формулировки: статьи о запрещении вольноотпущенным закрепощать себя, об определении в законе размера выкупа на свободу, об освобождении семейства изнасилованной женщины, а также отрывок об учреждении сельского суда не попали в окончательный текст; в нем остались, однако, ее положения о том, чтобы избегать случаев приводить людей в неволю; чтобы предоставлять крестьянам свободу вступать в брак; чтобы ограждать их права на имущество; чтобы предписать особым законом помещикам с большим рассмотрением рас полагать свои поборы и брать такие из них, которые менее мужика отлучали бы от его дома и семейства; наконец, чтобы отвращать путем закона «злоупотребления рабства», т. е. наказывать помещиков, мучающих своих крестьян [58].
В постановке, какую императрица Екатерина II сочла нужным придать крестьянскому вопросу при обсуждении его в Вольно-экономическом обществе, мысль об освобождении крестьян также не совсем исчезла, но выражена еще менее ясно, в связи с утилитарными соображениями государственного характера; упуская из виду, что «когда тело чье подвластно другому, имение его всегда тому же подвластно будет», покровительница общества в письме, доложенном 1 ноября 1766 года, обратила особое внимание на одни только имущественные права крестьян; вероятно, под влиянием мысли, что «земледельство», столь важное для государства, не может процветать там, где земледелец «не имеет ничего собственного», и что порабощение убивает соревнование и, значит, убыточно государству, она предложила следующую тему: «в чем состоит собственность земледельца: в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может?» Таким образом, императрица считала возможным, не предрешая вопроса о крестьянской свободе или о том, на каком праве господин владеет крепостным, обсуждать вопрос о том, какое право крепостной имеет на землю, которую он обрабатывает, и на движимость; в поставленном ею вопросе она, кроме того, едва ли ясно разграничивала «общенародную пользу» от государственного интереса, который можно было понимать и в гораздо более узком смысле.
Похожие книги на "Великая. История Екатерины II", Ключевский Василий Осипович
Ключевский Василий Осипович читать все книги автора по порядку
Ключевский Василий Осипович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.