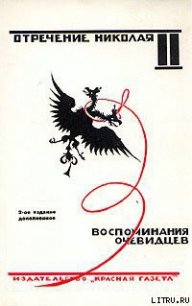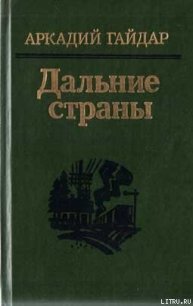Чернышевский - Богословский Николай Вениаминович
Воззвание к «Барским крестьянам» было переписано рукою Михайлова и передано Всеволоду Костомарову, оказавшемуся, как потом выяснилось, провокатором.
Проникновение его в среду революционных демократов стало роковым для Михайлова и сыграло затем свою роль в процессе Чернышевского.
Костомаров служил корнетом в Уланском полку и, кроме того, занимался литературной работой, переводя стихотворения западноевропейских поэтов. Михайлову и Чернышевскому он был рекомендован поэтом-петрашевцем Плещеевым и благодаря этой рекомендации стал печататься в «Современнике».
Плещеева долго потом мучило сознание, что он невольно причинил столько вреда Михайлову и Чернышевскому, но сожалеть уже было поздно…
Костомаров оказался той личностью, с помощью которой властям удалось впоследствии создать хотя бы видимость юридических улик против Чернышевского, чтобы осудить его на каторгу и ссылку.
В пространном письме Плещеева к Пыпину, написанном под непосредственным впечатлением от смерти Чернышевского в октябре 1889 года, рассказано, как удалось провокатору Костомарову проникнусь в среду «Современника».
Плещеев пишет: «В то время, как я жил в Москве, пришел ко мне однажды Ф. Берг, помещавший иногда свои стихи в «Современнике», и привел молодого уланского офицера Всеволода Костомарова, которого рекомендовал мне как даровитого переводчика стихов. Он прочел мне несколько своих переводов… После этого он стал заходить ко мне часто, и я содействовал ему в помещении его стихотворений в журнале. Сначала он мне понравился, показался скромным, застенчивым молодым человеком… Несколько времени спустя после моего с ним знакомства он задумал ехать в Петербург, сказав мне, что выходит в отставку и желает жить литературным трудом. Он просил дать ему рекомендательное письмо в редакцию «Современника». Я исполнил его желание и рекомендовал его Николаю Гавриловичу и Михаилу Ларионовичу Михайлову как человека, отлично знающего языки… и очень способного к компилятивной работе. Они прекрасно приняли его, обласкали, и в «Современнике» стали появляться его работы…»
В дальнейшем мы увидим, что Костомаров пытался путем подделки письма Чернышевского к «Алексею Николаевичу» (имя и отчество Плещеева) втянуть и своего рекомендателя в соучастники «преступлений» Чернышевского.
По приезде в Петербург Костомарову удалось произвести благоприятное впечатление на Михайлова и Шелгунова. Последний в своих воспоминаниях так рассказывает о появлении Всеволода Костомарова в Петербурге: «Костомаров был уже немного известен, как переводчик Гейне; но, не удовлетворяясь этой известностью и рекомендацией Плещеева, он отрекомендовал себя еще и сам. Он привез революционное стихотворение… напечатанное домашними средствами и с пропечатанною внизу фамилией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией… Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера…
Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать – у нас же оказалась готовность писать…»
Первым пал жертвою предателя Михайлов. Летом 1861 года он отпечатал в Лондоне, в герценовской типографии, прокламацию «К молодому поколению» и привез ее в Россию с целью распространения. Вскоре после его приезда разнесся слух об аресте Костомарова по делу о тайном печатании московскими студентами нелегальных произведений; арест его произошел якобы по письму-доносу его брата; в действительности письмо это было плодом провокаторской деятельности самого Всеволода Костомарова. С этого времени и начинается его предательская роль в двух самых важных политических процессах начала шестидесятых годов – Михайлова и Чернышевского.
Революционная ситуация, создавшаяся в стране, была настолько очевидна, что даже в правящих кругах признавали, что Россия стоит накануне «пугачевщины». Гнев народа против угнетателей грозил вылиться в широкое революционное движение. Признанным вождем и вдохновителем этого движения считался Чернышевский.
Со времени появления на сцене Костомарова все более и более усиливалось внимание властей к Чернышевскому. В недрах Третьего отделения созревал и вынашивался план расправы с великим революционным демократом и его окружением.
Над головою Чернышевского быстро сгущались тучи… Тяжесть его положения в это время усугублялась тем, что и в личной его жизни одно драматическое событие следовало за другим. За очень краткий промежуток времени, с конца 1860 года до своего ареста в середине 1862 года, он пережил много утрат родных ему по крови или по духу людей. Смерть сына… Смерть отца… Смерть Добролюбова, которого он любил, как брата и сына… Смерть Шевченко… Аресты друзей…
С весны 1861 года болезнь Гавриила Ивановича стала обостряться: все чаще случались припадки сердцебиения, и он с трудом поднимался по лестнице. Получение известий об этом чрезвычайно обеспокоило Николая Гавриловича, и он обратился за советом к знаменитому доктору С.П. Боткину, который заочно прописал рецепт. Лекарство оказало хорошее действие на
Гавриила Ивановича. «Какие плохие здешние доктора – говорил он близким знакомым, – сколько я ни принимал лекарств, прописанных мне ими, я ни разу не чувствовал облегчения, между тем после нескольких приемов лекарства Боткина чувствую себя гораздо лучше». Но когда Гавриил Иванович сообщил об этом сыну, а тот, в свою очередь, Боткину, последний ответил ему: «Если больной чувствует себя хорошо после приема лекарства, то, значит, положение безнадежное: он недолго проживет».
Слова Боткина обеспокоили Чернышевского, и он в середине августа поспешил выехать в Саратов.
Остановившись в Москве, он посетил Всеволода Костомарова, не подозревая, что последний уже готовился осуществить свой провокационный план с целью предать в руки властей сначала Михайлова, а затем и его самого.
Роковой круг стал уже смыкаться. Теперь на каждом шагу подстерегала его опасность, но он не предполагал, что она так близка и неотвратима. В ту пору, когда он жил в Саратове, в кругу родных и близких людей, над Михайловым в Петербурге уже разразилась катастрофа, предвещавшая беду и Чернышевскому. Полицейские агенты в Петербурге стремились приписать нарастание студенческих волнений пагубному влиянию Чернышевского. Он не знал, что в столице уже пронесся в его отсутствие слух о его аресте.
С какою непосредственной радостью спешил он по приезде в Саратов известить двоюродного брата филолога о той необычной находке, которую случилось ему обрести по пути из Владимира в Нижний Новгород! Он просит Пыпина передать свое письмо об этой находке Добролюбову для напечатания в «Известиях» Академии наук или в «Современнике».
От Владимира до Нижнего Чернышевский ехал в ямщицком тарантасе. Остановившись в Вязниках на постоялом дворе, в ожидании, пока перепрягут лошадей, он разговорился с пожилым степенным мещанином из Коврова, торговавшим, как оказалось, старопечатными книгами и рукописями. Иван Антипович Кувшинников (так звали книготорговца) заметил в разговоре, что у него есть, между прочим, харатейная рукопись XIII века, заключающая в себе «Минию Цветную». Чернышевский выразил желание взглянуть на нее. Кувшинников отправился к своему тарантасу и через несколько минут притащил огромный пергаментный фолиант в кожаном черном переплете с медными застежками. Рассматривая рукопись, Чернышевский увидел, что первые пятьдесят шесть листов и последние сто двадцать были действительно началом и концом «Минин Цветной», а средняя часть рукописи – двести листов – оказалась списком какой-то летописи без начала и конца. Чернышевский пришел в восторг от мысли, что напал на редчайший список русской летописи, который на целое столетие был древнее Лаврентьевского.
Похожие книги на "Чернышевский", Богословский Николай Вениаминович
Богословский Николай Вениаминович читать все книги автора по порядку
Богословский Николай Вениаминович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.