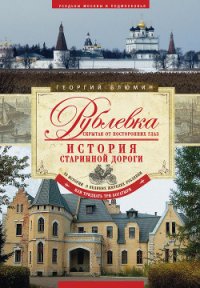Восхождение Запада. История человеческого сообщества - Мак-Нил Уильям
712
Христианизация ускоряла процесс социальной дифференциации в германском обществе: христианское учение не только возвеличивало власть и святость короля, но и самим наличием принципа иерархической церковной организации доносила новую, не племенную и авторитарную концепцию социального устройства общества в самые отдаленные уголки государства.
713
Какие силы стояли за иконоборчеством, до конца не ясно. Лев III был профессиональным военным с типичной для востока Малой Азии карьерой. Он пришел к власти путем военного мятежа, низложив Феодосия III в результате кризиса власти при осаде Константинополя в 717-718 гг. Омейядами. Его иконоборчество, возможно, было вызвано личными религиозными убеждениями либо желанием предупредить исламскую критику христианского идолопоклонства. Возможно, он стремился примирить пуританские чувства и убеждения, присущие восточным районам Малой Азии, откуда вербовались в армию Византии наиболее умелые воины, а возможно, он просто хотел лишить монастыри части их власти и богатства. Конечно, имелась значительная поддержка иконоборческой политики императора, особенно в армии, но все сведения об этом настолько полно уничтожены победившими иконопочитателями, что восстановить причины и мотивы иконоборчества практически невозможно. См. A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, I, 251-58, 263-64; P.J. Alexander, Tlie Patriarch Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire (Oxford: Clarendon Press, 1958), 111-25, 214-25.
714
В 812 г. при передаче значительной территории на северо-восточном побережье Адриатики восточный император признал и, таким образом, узаконил право Карла Великого на его титул.
715
В 904 г. второй по величине город Византийской империи, Салоники, был захвачен и разграблен во время морского набега мусульман. Только захват самого Константинополя мог предоставить более яркое доказательство упадка византийского морского могущества.
В работе: AXewis, Naval Power and Trade in the Mediterranean, pp. 120-31 была выдвинута интересная гипотеза причин такого упадка византийского флота. Автор объясняет его принципиально неправильной торговой политикой, которую империя установила в начале VIII в. Эта политика, как считает Льюис, ограничивала морское предпринимательство греков и замораживала сирийскую и египетскую торговлю. Поскольку разрушался греческий торговый флот, освободившееся место сразу стало занимать полупиратское предпринимательство итальянских и североафриканских браконьеров, которых уже нельзя было контролировать из Константинополя. Материальные и людские ресурсы военно-морских сил Византии сокращались до тех пор, пока изменение мощи торгового флота окончательно не показало смену баланса сил в Средиземноморье к 827 г. Этот интересный тезис, возможно, не только подозрительно созвучен современным либеральным принципам торговли, но и соответствует истине.
716
Географических подробности этих перемещений до конца не ясны. Но см. работы: D.M. Dunlop, History of the Jewish Khazars, pp. 196-204; C.A. Macartney, Тhе Magyars in the Ninth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1930); George Vernadsky and Michael de Ferdinandy, Studien zur ungarischen Frilhgeschichte (Munich: Verlag R.Oldenbourg, 1957).
717
Монеты Сасанидов, Омейядов и Аббасидов, которые находят в Скандинавии, доказывают существование хорошо развитой торговли между Ближним Востоком и Скандинавией в удивительно ранние периоды истории. Проникновение руссов по рекам на территорию России, возможно, началось в конце VIII в., но похоже, что приблизительно к 840 г. коренное население вытеснило их. Лишь повторное призвание варягов позднее, в 862 г., когда возникла потребность в их военном мастерстве при защите от вторжения хазар (а возможно, и от посягательств венгров), дало им возможность ощутить собственную власть. См. George Vernadsky, A History of Russia (new rev. ed.; New Haven, Conn.: Yale University Press, 1944), pp. 19-30; Archibald R.Lewis, TJie Northern Seas: Shipping and Commerce in Northern Europe, AD. 300-1100 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1958), pp.270-74; S.F.Cross, «The Scandinavian Infiltration into Russia», Speculum, XXI (1946), pp.505-14; F.Dvornik, The Making of Central and Eastern Europe (London: Polish Research Center, 1949), pp.5, 61-64.
718
Своим успехом руссы, возможно, были обязаны в основном превосходством в живой силе, поскольку воины-варяги, как и болгары, быстро ассимилировались в среде славян, которыми они и управляли. Основную долю населения государства руссов составляли оседлые крестьяне, в то время как власть хазар, вероятно, распространялась исключительно на кочевые образования, по определению гораздо меньшие по своей численности.
Тактика и стратегия речной войны и торговли остаются полностью неясными. Если преобладали рукопашный бой и абордаж, то военные преимущества кочевников на суше теряли свое значение в борьбе за контроль над водными путями. Всадники кочевников, конечно, могли беспокоить караваны судов, обстреливая их стрелами с суши, но едва ли могли так остановить продвижение судов, если только пороги не делали дальнейшее продвижение невозможным либо нападение происходило в месте волока из одной речной системы в другую. Но большинство волоков лежало в глубине лесов, в верховьях русских рек и вне контроля кочевников. А вот территории, где были пороги, подобные днепровским вблизи современного Днепропетровска, представляли собой открытые степи и становились ареной открытого столкновения кочевников и руссов за контроль над водными путями.