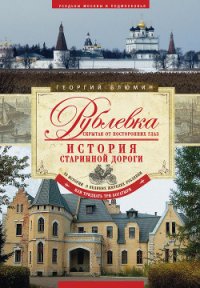Восхождение Запада. История человеческого сообщества - Мак-Нил Уильям
792
Ср. отношения между германскими варварами и римскими христианами в IV в.
793
Rene Grousset, L'Empire des steppes (Paris: Payot, 1939), pp.592-93.
794
См. B. Vladimirtsov, The Regime social des Mongols (Paris: Maisonneuve, 1948), pp.39-56. Никакая пустыня Гоби не могла воспрепятствовать проникновению китайского влияния на север, и с X в. в Маньчжурии происходит значительное смешение кочевого и оседлого населения. См. Karl A.Wittfogel and Feng Chia-sheng, History of Chinese Society: Liao, 907-1125 (New York: Macmillan Co., 1940), pp.53-58, 115-25. Глубина социально-экономических изменений в ходе проникновения кочевников в Маньчжурию сопоставима с событиями на тюрко-иранской границе в тот же период.
795
Отношения Византии с кочевниками юга России и Придунайской равнины больше напоминали китайскую, чем иранскую модель, однако, поскольку никакого крупного прорыва византийских границ кочевниками в IX в. не произошло (возможно, благодаря отклонению основных потоков миграции степных народов к югу, на земли, подвластные исламу), можно пренебречь описанием связей Византии с печенегами, половцами и пр. Интересные подробности этих приграничных сношений можно найти в работе: F. Dvornik, «Byzantium and the North» in Michael Huxley (ed.). Tlie Root of Europe: Studies in the Diffusion of Greek Cultures (London: The Geographical Magazine, 1952).
796
В работе Wittfogel and Feng, History of Chinese Society, Liao, 907-1125 указываются различия в степени изоляции кочевников от китайского общества при разных иноземных завоевателях. Так, чжурчжэньские правители (1115-1234 гг.) допускали более тесные контакты с китайцами, чем кидани (907-1125 гг.), завоевавшие север Китая; а маньчжуры (1616-1912 гг.) были более подвержены окитаиванию, чем монголы (1206-1368 гг.). Эти данные уточняют картину, но не влияют на общий вывод.
797
В мусульманском мире сопротивление носило характер религиозных сектантских движений (шиитских сект). Ассасины, создавшее и поддерживавшие с 1090-го по 1256 г. рассеянное среди населения тайное сектантское движение, прилагали очень много усилий, чтобы свергнуть власть турок-сельджуков, апеллируя при этом как к антитюркским, так и к антисуннитским настроениям. См. Marshall G.S.Hodgson, The Order of Assassins (Gravenhage: Mouton, 1955).
798
В работе: A.N .Poliak, «Le Caractere colonial de Petat mamelouke dans ses rapports avec la Horde d'Or», Revue des etudes islamiquesy IX (1935), 231-48 выдвигается интересная гипотеза, согласно которой режим мамелюков был, в сущности, заморской колониальной империей черкесов и тюркских купцов и воинов с Северного Причерноморья, вытеснившей из Леванта подобную франкскую колониальную империю.
799
В работе: Claude Cohen, «Le Probleme ethnique en Anatolie», Cahiers d'histoire mondialey II (1954-55), 347-62 утверждается, что тюрки проникли в Анатолию до битвы при Манцикерте и эта битва лишь закрепила существующий порядок вещей, а не открыла дорогу для тюркской экспансии.
800
По удивительному совпадению обе эти державы единственные среди мусульманских стран выстояли перед монгольским нашествием, обрушившимся на исламский мир в XIII в.
801
В работе B. Vladimirtsov, Le Regime social des Mongols, pp.56-158 утверждается, что монголы находились на стадии перехода от родоплеменного общества к тому, что автор называет феодальной системой, когда богатство и власть концентрировались уже не в руках наследственных вождей родов и племен, а в руках сторонников и родственников правящего семейства. Очевидно, что только путем разрыва старых родовых связей и организации своего войска по иерархическому принципу Чингисхану удалось создать свой инструмент завоевания. Однако термин «феодальный» кажется малоподходящим для описания политической структуры монгольского общества. Наряду с местными традициями в создании военной и территориальной администрации Чингисхан опирался на бюрократические модели уйгуров (т.е. в итоге, возможно, Сасанидов) и китайцев. См. Barthold, Turkestan down to the Mongol Conquesty pp.386-93; George Vernadsky, The Mongols and Russia (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1953), pp.92-137.
802
С монгольскими завоеваниями не было связано никаких технических усовершенствований в области вооружения, однако воины Чингисхана успешно осваивали новое оружие, которое встречали у врагов. Так, катапульты, построенные мусульманскими ремесленниками, применялись монголами при осаде китайских городов, а изобретенный в Китае порох, по-видимому, был использован ими в Венгрии.
Ударной силой монголов была кавалерия, но легкая кавалерия лучников, характерная для монгольской армии вначале, быстро была дополнена тяжеловооруженными катафрактами, таким образом сочетая силу огня и удара. Обычная тактика сводилась к окружению врага, что напоминало привычную тактику монголов во время ежегодной большой охоты. На охоте все мужчины племени образовывали круг загонщиков и, постепенно сжимая его, гнали зверя к удобному для забоя месту. Этот метод требовал четкой координации действий всех участников, и его можно считать лучшими «учениями» для монгольских командиров и солдат, поскольку охотники и воины были одними и теми же людьми.
Армии монголов превосходили армии цивилизованных государств не числом (их часто было меньше) и не вооружением, а мобильностью и координацией действий на очень дальних расстояниях. Они могли перемещаться рассредоточенными колоннами по любой местности, поддерживая постоянную связь, поэтому могли объединяться в боевые порядки в нужный момент и в нужном месте. Субэдэй, монгольский военачальник, возглавлявший вторжение в Европу в 1241 г., мог не заботиться о поддержании связи и координации между частями его армий, наступавших на Польшу и Венгрию, несмотря на то что их разделяли Карпатские горы. Европейские армии не достигли такого уровня координации до конца XIX в. У монголов были отличные гонцы, превосходная глубокая и фланговая разведка. Играла свою роль и удивительная выносливость как воинов, так и лошадей, взращенных в суровых условиях монгольской степи. Обзор монгольской воинской организации и тактики см.: H.Desmond Martin, The Rise of Chingis Khan and His Conquest of North China (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1950), pp. 11-47.