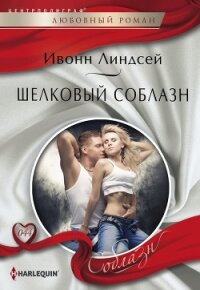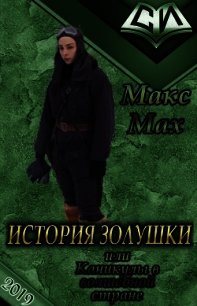Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
Но это было не все. Перед Чемберленом стояла еще одна дилемма, которую ему трудно было решить. «Все выглядит так, — делился он со своими коллегами, — что неудача в попытках достичь согласия с Советской Россией породит подозрения и трудности в отношениях с левыми силами у нас в стране и во Франции, тогда как настаивание на участии Советского Союза уничтожит любой шанс создать сплоченный единый фронт против германской агрессии» 130. То есть Чемберлен опасался, что любой исход в переговорах с СССР приведет к негативным последствиям — либо он подвергнется жесткой критике со стороны оппозиции, либо отпугнет страны Восточной Европы. А тут еще и Бонне сообщил Чемберлену, что надо обязательно договариваться с Советским Союзом, потому что без него любые гарантии Польше будут неэффективными 131. Французскому министру легко было советовать. Сам он не был вовлечен в переговорный процесс с поляками, которые демонстративно предпочитали разговаривать только с Англией.
Пытаясь нащупать новый британский курс, Чемберлен столкнулся и с другой проблемой. Страны, которые получили послания Форин Офис, испугались их почти так же, как возможного нападения Гитлера. До сих пор им удавалось соблюдать некий баланс в отношениях с Германией, и они боялись, что, нарушив его, они сразу попадут в стан врагов Третьего рейха 132. Югославия сообщила о желании сохранить нейтралитет и продолжить сотрудничество с Германией и Италией. Греция хотела посмотреть, как будут вести себя другие члены Балканской Лиги — Югославия, Турция и Румыния 133. Главной заботой румынских властей было стремление рассеять любые подозрения Германии в нелояльности. Такой же была и первоначальная реакция Польши. Обе страны прекрасно понимали, что могут стать следующим объектом нападения Германии, и старались не дать Гитлеру ни малейшего повода к этому. Они надеялись, что смогут уладить все вопросы путем переговоров с Германией 134. Игнорировать эти желания англичане не могли, тем более что в Лондоне понимали — без участия Советского Союза Британия не в состоянии оказать эффективную помощь ни Польше, ни Румынии 135. 19 марта, взвесив все за и против, Чемберлен предложил Москве присоединиться к усилиям Великобритании и подписать совместную декларацию с Польшей и Румынией о противодействии агрессивным замыслам Германии.
Литвинов прекрасно понимал, что ни Румыния, ни, тем более, Польша не станут подписывать совместную с СССР декларацию, даже если ее подписантами станут также Англия и Франция. Поэтому в ответ он предложил вместо декларации провести в Бухаресте конференцию, где все заинтересованные страны смогли бы обсудить возникшую после захвата Чехословакии ситуацию и рассмотреть, какие шаги можно было бы предпринять. Не прошло, однако, ни то ни другое предложение. Румыния отказалась сразу 136, а Польша тянула время, ожидая результатов визита Бека в Лондон, который должен был состояться в начале апреля 137. Литвинову оставалось лишь внимательно наблюдать за дальнейшим развитием событий. «Мы должны избегать всего того, что дало бы ему (Чемберлену. — И. Т.) повод говорить о нашей самоизоляции, об отклонении нами сотрудничества и т. п., и этим как бы задним числом оправдать мюнхенскую политику если не как единственно правильную, то как единственно возможную для Англии», — делился нарком своими соображениями со Сталиным 138. Вождь выжидал.
Тем временем Польша приняла решение сражаться. Причем Данциг как таковой не особенно интересовал польское руководство. 24 марта Бек признался в узком кругу, что вольный город является лишь «символом», который Польша будет защищать с оружием в руках. Польские лидеры боялись, что, отдав Данциг, Польша может превратиться в германского вассала 139. Такая позиция логически вытекала из самооценки, которая господствовала в Варшаве после возрождения независимого государства. Там упорно считали Польшу «великой державой». Никто больше в Европе так не думал, и никаких преференций, подтверждающих подобный статус (например, постоянное место в Совете Лиги Наций), Польша не имела, но Бека это не смущало. К тому же он сильно переоценивал мощь польской армии. Польские генералы убеждали Бека, что тридцать пехотных дивизий смогут сдержать германское наступление, а храбрая и многочисленная польская кавалерия способна сокрушить любого противника. Военная мысль и техническое оснащение польской армии застряли где-то в начале 20-х годов. План войны с Германией, разработанный польским генеральным штабом, предусматривал отход на естественные рубежи, защищенные польскими реками, где поляки сдерживали бы германскую армию до наступления периода зимних дождей и распутицы. К этому времени Англия и Франция должны были вмешаться в ход военных действий и заставить Германию отступить 140. После некоторого замешательства Польша согласилась принять английские гарантии и позволила убедить себя в том, что они должны быть взаимными. Это, конечно, нарушало принцип равноудаленности Варшавы от Москвы и Берлина, потому как все в Европе прекрасно понимали, что гарантии направлены против возможной германской агрессии.
31 марта Чемберлен заявил в палате общин о возможности предоставления Польше английских гарантий. Этому предшествовали консультации с французским послом в Лондоне Шарлем Корбеном, в ходе которых было решено, что Англия и Франция дадут Польше односторонние обязательства в том, что обе страны вступят в войну, если Польша подвергнется агрессии 141. 24 марта польский посол в Лондоне Эдуард Рачиньский сообщил англичанам о согласии своей страны, сделав ряд уточнений 142. Они касались прежде всего Советского Союза. Ни при каких обстоятельствах Польша не желала видеть СССР своим союзником 143. Поляки соглашались на взаимные обязательства с Англией и Францией, но в виде трехстороннего соглашения. Фактически это было бы соглашение о втором фронте, где на восточном направлении Польша должна была действовать самостоятельно. В какой-то степени это даже обрадовало Чемберлена. Отпадала необходимость договариваться о помощи Москвы. «Ключевая роль в нынешней ситуации принадлежит не России, которая не имеет общей границы с Германией, а Польше, граничащей как с Германией, так и с Румынией», — объяснял премьер лейбористам 23 марта 144. Чемберлену вторил Галифакс. «Нам надо было сделать выбор между Польшей и Советской Россией, — говорил он о позиции своей страны. — Было ясно, что Польша представляет собой большую ценность» 145. Вопрос о совместной декларации четырех держав (Англия, Франция, Польша и СССР) отпадал. «Декларация мертва, — сообщил Чемберлен сестре Иде 26 марта, — и я рассматриваю сейчас другую возможность» 146. Хотя англичане не оставляли надежд договориться и с Москвой. «Хорошо это или плохо, но Россия является частью Европы и мы не можем игнорировать ее существование», — вздыхал Галифакс 147. На заседаниях кабинета, однако, глава Форин Офис, как правило, соглашался с Чемберленом 148. Окончательно принципы взаимной помощи между Англией и Польшей были обговорены в начале апреля, когда Бек приезжал в Лондон, а сам договор о военном союзе был заключен лишь в конце августа, уже после подписания пакта о нейтралитете между СССР и Германией.
Мартовский кризис и гарантии, предоставленные Польше, имели одно очень важное последствие. Чемберлен связал себя обязательством, которое делало неминуемым вовлечение Британии в войну. Британский премьер поставил себя, по меткому замечанию британского историка Кита Нилсена, в положении буриданова осла149. Отныне, куда бы ни двинулась дальше германская агрессия, а в том, что она будет, не сомневался уже никто, Великобритания неизбежно становилась участницей военных действий. Конечно, был вариант поступить так же, как Франция обошлась с союзной Чехословакией во время Судетского кризиса, но это грозило, по мнению Ванситарта, превращением Англии во второстепенную державу, с которой никто больше не захочет связываться 150. После гарантий, выданных Польше, для Британии исчезала всякая вероятность направить гитлеровскую агрессию на Восток (если такое намерение вообще когда-либо существовало). Эта гарантия полностью разрушает старый миф, придуманный сталинской пропагандой, будто бы целью Англии было стремление столкнуть лбами нацистскую Германию и большевистскую Россию, а самой остаться в стороне и дожидаться, пока обе страны не истощат себя в кровопролитной схватке. Этот миф настолько крепко вошел в советскую и постсоветскую историографию, что многие историки продолжают повторять его, как аксиому, не заботясь о том, что это противоречит элементарной логике.
Похожие книги на "Происхождение Второй мировой войны", Тышецкий Игорь Тимофеевич
Тышецкий Игорь Тимофеевич читать все книги автора по порядку
Тышецкий Игорь Тимофеевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.