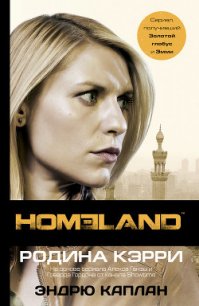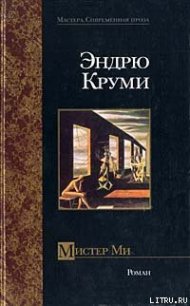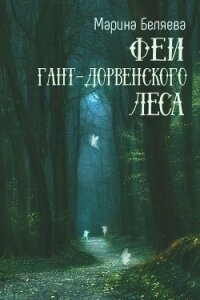Пять прямых линий. Полная история музыки - Гант Эндрю
Ознакомительная версия. Доступно 33 страниц из 165
XIX столетие стало столетием немецким. Бродить сейчас по Лейпцигу – значит испытывать своего рода временное смещение: на тебя со своих пьедесталов смотрят Бах и Мендельсон, ты проходишь двери, за которыми жил строптивый юный Вагнер и косноязычный Шуман и его родня, дом, в котором Малер написал свою первую симфонию, читаешь театральную программу оркестра Мендельсона. В Гамбурге тоже есть квартал композиторов, где ряд музеев его знаменитых музыкальных сыновей, от Телемана и К. Ф. Э. Баха до Малера и Брамса, напоминает книжную полку. В Гейдельберге до сих пор слышно эхо его былой славы как «одной из столиц романтизма», где в 1805–1808 годах Клеменс Брентано и Ахим фон Арним составили знаменитый сборник народных поэм «Волшебный рог мальчика» и «практически основали восторженный немецкий романтизм на Рейне» [622].
В то же время Италия утратила первенство во всем, кроме оперного пения («концерты и фестивали… практически неизвестны здесь… что до религиозной музыки – она также остановилась», писал Берлиоз) [623]. Англия XIX столетия вошла в историю как «das Land ohne Musik» [624], по едкому замечанию немецкого журналиста Оскара Шмитца в 1904 году: честный, хотя и обидный комментарий относительно талантов ее композиторов (по крайней мере до Элгара), но не ее оживленной концертной жизни [625].
Зарабатывая на жизнь: дирижеры, педагоги, композиторы и исполнители
По-прежнему расширялись возможности композиторов зарабатывать. Почтенная система немецкого капельмейстерства ушла в прошлое вместе с княжескими дворами, которые она обслуживала. На смену ей пришла позиция дирижера городского оркестра или же оперного театра (вместе со все той же обязанностью переписывать чужие оперы под голос местной дивы): на эту преемственность указывает слово «Kapelle» в названии нескольких немецких оркестров. Необходимость придворных капелл для процветания местных талантов, быть может, отчасти объясняет отсутствие такого рода талантов в Англии, где лишь провинциальный церковный органист может быть «достоин сравнения с многими выдающимися капельмейстерами в странах, где есть более подобающие условия для музыкальных знаменитостей», как сказал Джордж Элиот [626].
Работа давала экономическую стабильность, но и накладывала определенные требования и ограничения. Жизнь свободного музыканта была хотя и лишенной их, но неспокойной. Среди композиторов XX века невероятно успешными были амбициозные и предприимчивые Никколо Паганини и Джакомо Мейербер; в то же время Эдвард Элгар жаловался накануне свадьбы в 1880-е годы, что «мои перспективы столь же безнадежны, как и всегда… у меня нет денег, ни цента» [627]. Берлиоз ядовито заметил, что «важно… написать не несколько хороших вещей, а множество второсортных, которые принесут быстрый успех и доход» [628] – хотя, по счастью, ни Элгар, ни Берлиоз не поддались такому искушению. Эту задачу музыканты не могут разрешить до сих пор.
Романтическое столетие сделало популярной (хотя и не изобрело) идею странствующего свободного композитора / исполнителя, создав невероятный спрос на салонных звезд с длинными волосами и пальцами, таких как Шопен и Лист, Паганини и Рубинштейн. Музыканты такого рода повлияли на представления о социальных аспектах создания музыки. Уже в XX веке Т. С. Элиот описывал даму света, идущую слушать «виртуоза-поляка», «что нам прелюдии, объятый вдохновеньем / Преподнесет, пленяя исполненьем» [629] [630]. Следует помнить об элементе импровизации в концертной программе того времени, эволюционировавшей от технического, чрезвычайно сложного экспромтного исполнения фуг и вариаций, которое практиковали Моцарт и Бах, к привычке Шопена играть свои произведения каждый раз по-другому, вставляя фигурации и мелизматику подобно не прилежному классическому музыканту, но современному джазовому певцу.
Пение и актерская игра развивались тоже. Артистическим семьям XVIII века, таким как Арне, Сибберы, Линли и Сторасы, наследовали экстравагантные и талантливые Девриенты, оказавшие принципиальное влияние на творческую эволюцию (совершенно различную) Мендельсона и Вагнера. Вагнер говорил, что Вильгельмина Шредер-Девриент «научила меня природе миметической правды искусства» [631], и в 1845 году пригласил ее вместе с ее юной племянницей Иоганной петь в «Тангейзере». Любовь публики к наигранному певческо-актерскому стилю того времени нашла отражение в популярности длинных повествовательных баллад с фортепианным аккомпанементом, в частности сочинений Карла Леве. Вагнер часто аккомпанировал юной Иоганне, исполнявшей «Эдварда» Леве 1181 года, жутковатую историю, в которой Эдвард говорит матери, что убил своего сокола, затем – что коня, прежде чем признаться, что на самом деле он убил отца (еще одна история о распавшейся семье, повлиявшая на мировоззрение Вагнера) и осужден на то, чтобы вечно скитаться по морям, как своего рода Старый Моряк и «Летучий голландец» в одном лице. Вебер в этом искусстве пошел еще дальше, импровизируя подобно пианисту в театре немого кино для герцога Фридриха Прусского, сидевшего рядом с ним и предававшегося мечтаниям под музыку. Шуман занимался тем же самым под чтение стихов Шелли. Внезапные пугающие немецкие секстаккорды, изображающие «темную бурную ночь», появились именно в рамках этой практики.
Технологические инновации: инструменты
Инструменты, как и оркестры, в которых они звучали, становились все больше и громче. Среди новых инструментов, названных по имени их изобретателей, были саксофон и вагнеровская туба. Вне концертных залов военные и приходские оркестры включали в себя целый зверинец разных крякающих и квакающих инструментов, от офиклеида до серпента. В больших церквах орган от добаховского инструмента, в котором не было даже полноценной ножной клавиатуры и на котором играли органисты начала века, такие как Томас Эттвуд в соборе Святого Павла, разросся до величественных сооружений, созданных французским строителем органов Аристидом Кавайе-Колем, на которых можно было играть целые симфонии (что и делалось). Крупные французские церкви обычно имели два органа, один в нефе, другой на хорах.
Главной музыкальной новинкой был рояль. Ранние его создатели были композиторами, исполнителями и педагогами, в первую очередь парижские мастера Фридрих Калькбреннер и Камиль Плейель (чья жена Мария была одной из самых знаменитых пианисток своего времени). В 1820–1830-е годы Бродвуд в Лондоне и Граф в Вене объединились с Плейелем, чтобы удовлетворить внезапный спрос на ставшие невероятно популярными рояли, создав более крупные и тяжелые инструменты, которые требовали от исполнителя большой физической силы и крепкой спины (что совершенно не нравилось Шопену, чья «исключительная деликатность туше» в его 19 лет восхищала всю Вену) [632]. Берлиоз язвительно высмеял добросовестные попытки изготовителя замечательных роялей Себастьяна Эрара «обкатать» новый инструмент, предложив использовать его на конкурсе, где концерт для фортепиано с оркестром Мендельсона соль минор должен был быть исполнен 31 раз: к концу конкурса рояль так «обкатался», что исполнил концерт сам. Ведущие немецкие фирмы Бехштейна и Блютнера и американская Стейнвея были основаны в 1853 году. В 1859 году Генри Стейнвей запатентовал новую систему перекрестной натяжки струн в его роялях, которые благодаря этому обрели невероятно мощный звук и резонанс, особенно в басовом регистре. К 1870-м годам у него была крупная фабрика на Манхэттене и видное место на ярмарках и выставках, которое он получил благодаря небольшой взятке в нью-йоркском стиле. Многие до сих пор полагают рояли Стейнвея ne plus ultra фортепианного производства.
Ознакомительная версия. Доступно 33 страниц из 165
Похожие книги на "София и мышиный лорд. Возвращение в Волшебные миры", Витчер Муни
Витчер Муни читать все книги автора по порядку
Витчер Муни - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.