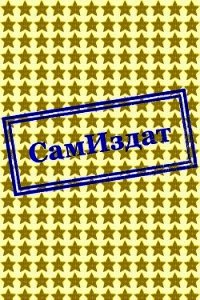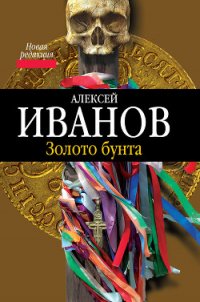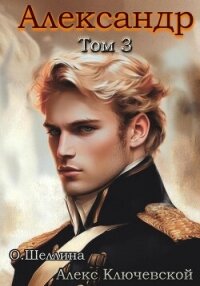Золото Стеньки (СИ) - Черемис Игорь
Попов снова задумался.
— Выглядит сложно, но иногда такое случается, — как-то неохотно признал он. — Случай — да и всё. Но он явно не воин, хотя с воинским делом знаком не понаслышке. Скорее — послух, или на иностранный манер — агент.
Мне всё стало ясно — один разведчик признал в ком-то своего коллегу.
— Почему так думаешь, Григорий Иванович?
— Да посмотрел, как он с народом общается — с моряками этими, с купцами на торгах, со стрельцами. Так и должно себя послуху вести, больше знакомых — лучше для дела. Только я его дела понять не могу.
— Ну да, с Голландией мы вроде не воюем…
— А речь и не о войне вовсе, царевич. Голландцам тоже важно знать, как мы тут живем, чем можно на государя надавить, чтобы себе побольше получить, а нам — поменьше дать.
— Думаешь, они и так не знают того? — усмехнулся я.
Понятие «государственной тайны» сейчас если и существовало, то очень условно. Я, правда, мог оперировать только памятью настоящего царевича, но даже он понимал — лучшей защитой секретов России является то, что никто — и царь в том числе — не знает всего. Нельзя выдать то, что тебе неизвестно.
— Может, и знают — поди их, разбери, — Попов пожал плечами. — Только ты этому Дорманну разрешил в Астрахань отправиться, а ну как он нас казакам выдаст? Может, мы его того — бердышом по голове и в реку? Нет человека — нет и проблемы…
На меня отчетливо пахнуло читанным ещё в школе томиком Солженицына.
— Нет, Григорий Иванович, не надо бердышом, — чуть торопливее, чем нужно, сказал я. — Но приглядывать за ним стоит, если опасение имеешь. Справишься со своими стрельцами? Чтобы точно знать, когда он Разину о нашей задумке расскажет? Или дать кого в помощь?
Попов опять задумался.
— Нет, не надо никого, сами исполним, — решил он. — А если продаст — тогда что?
— Ничего, — улыбнулся я. — Предупрежден — вооружен. Главное — нам об этом сообщи, а мы уж придумаем, что делать. Но ещё главнее — знать, что Разин после этого предательства решит.
* * *
Война это очень долгие перемещения и ещё более долгое ожидание. К месту будущей битвы я и моё войско двигалось почти два месяца — и всё равно нам оставалось добираться туда ещё день или чуть больше. Но это потом, когда будет сигнал от ребят Попова. А сейчас наши разведчики, шпионы и гонцы отправились по отведенным им местам, и нам оставалось только ожидать от них хоть каких-либо вестей.
Камышин находится в ста пятидесяти километрах от Царицына. Вниз по Волге такое расстояние и за расстояние не считалось — если помогать себе веслами и парусами и выйти на рассвете, то мы попадали к месту назначения на следующий день ко второму завтраку.
От Царицына до Астрахани было вдвое с лишним дальше — примерно триста пятьдесят километров. Но нам в Астрахань было не нужно, а вот Разину — наоборот, нужно было выбираться оттуда, причем вверх по течению, что сильно замедляло скорость даже быстроходных казачьих стругов. Если плыть к Каспию, то это расстояние покорялось за три дня. А если обратно — можно смело закладывать дней шесть или даже неделю целиком.
Мы и в самом деле стояли лагерем под стенами крепости на берегу Камышинки — всё было в точности так, как я отписал в Астрахань воеводе Прозоровскому. Если он и его приближенные решат сохранить эту информацию в тайне от горожан, то на этот случай в его городе были и другие мои люди, не только официальные гонцы. Те на глаза властям не показывались, сидели по корчмам и харчевням, проедая и пропивая казенные копейки и рассказывая всем желающим, как их загонял жестокий царёв сынок.
Ну а между Астраханью и Камышином, вдоль дороги по правому берегу Волги, стояли наши заставы — десяток стрельцов и татары с лошадьми. Таких застав было десять, и расстояние между ними мы выбрали так, чтобы гонец мог преодолеть его на лошади без неизбежной смерти невинной животины. Правда, запасные кони имелись в достойном количестве — окрестные калмыки охотно продали нам небольшой табун за пару старых фитильных ружей, имевшихся в арсенале «Орла». А за пороховой запас к этим ружьям они же выделили нам ещё и ватагу мальцов — в помощь татарам и стрельцам.
Кажется, этих мальцов мне потом придется забирать с собой — в стойбищах их никто обратно не ждал, а идея оставить этих ребят на растерзание гарнизонных вояк Нижней Волги мне не нравилась. Да и в принципе мне почему-то захотелось завести собственную Его царского высочества гвардию из инородцев — вроде бы у поздних Романовых что-то такое в наличии имелось. Я даже пожалел, что будущий хан Аюка сейчас скрывается от грозного соперника, убившего его отца и пленившего деда — было бы интересно поговорить с тем, кто окончательно приведет калмыков под руку русского царя. Но быстро найти его было почти невозможно, так что я предоставил Аюку его собственной судьбе.
Когда всё было налажено, мы засели у Камышина, ждали вестей и дико скучали. Спустя неделю даже Трубецкой, кажется, был готов завыть на луну, но он нашел спасение в беседах с Байлем — они обсуждали строительство и обустройство крепостей, а заодно — достоинства и недостатки «итальянских обводов», как шотландец называл звездчатую крепость. Поначалу я их слушал с интересом — всё-таки любопытно было присутствовать при самом начале применения укреплений этого типа на Руси, но потом бесконечные равелины, бастионы и редюиты мне поднадоели, и я оставил эту тему профессионалам.
Именно тогда я понял, что такое настоящий мандраж. Это оказалось сильным испытанием для молодого организма и не шло ни в какое сравнение с тем, как в институте я ожидал экзаменов. При этом собственно встречи с Разиным и его казаками я опасался не так явно. Значительно сильнее был мой страх перед тем, что Алексей Михайлович разгневается, получив моё письмо, посланное из Казани.
В принципе, царь — если он действительно сильно переживал за сына — должен был быть последовательным. То есть после прочтения моего отказа исполнять его волю и возвращаться в Москву ему следовало как минимум отписать всем воеводам по Волге приказ — задержать царевича и оправить его с ближайшим корабликом в сторону столицы. Был и ещё один вариант — послать пяток стругов со стремянными стрельцами и парочкой доверенных бояр, которые и донесут до меня, как нехорошо не слушаться родителя.
Но дни шли, а ничего не случалось — воевода Панов вел прежний полусонный образ жизни, гоняя вверенный ему персонал по неведомому мне плану, а струги с царскими вымпелами из-за острова на стрежень не выплывали. Мой мандраж от этого меньше не становился — если я расслаблялся, меня начинало по-настоящему колотить, словно от какой-то неведомой болячки. И колотило так сильно, что я не мог ни писать, ни рисовать, ни читать — да и просто сидеть толком не мог, не говоря уже ходьбу. Приходилось лежать и успокаивать себя мантрой, которой меня обучил один сокурсник, специализировавшийся на музыке Beatles — то есть пытался до просветления повторять про себя фразу «Джай Гуру Дева Ом». Правда, просветление так и не наступало, но хоть какая-то связь с прежней жизнью действовала отрезвляюще. [1]
Ещё помогала водка — это обнаружилось совершенно случайно, — но злоупотреблять этим народным средством я не стал, помня, что неокрепшие подростковые организмы очень быстро скатываются в натуральный алкоголизм. Ну а становиться алкоголиком за двадцать лет до Петра мне очень не хотелось.
Похожие книги на "Золото Стеньки (СИ)", Черемис Игорь
Черемис Игорь читать все книги автора по порядку
Черемис Игорь - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.