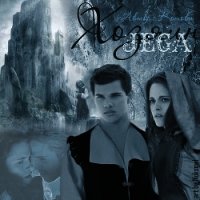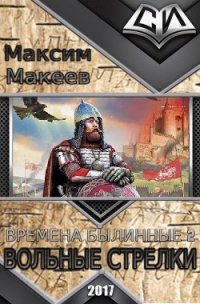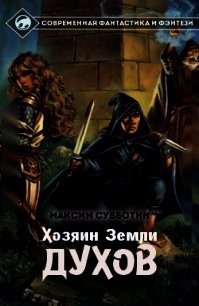На дальнем кордоне (СИ) - Макеев Максим Сергеевич
Мы же с Кукшей сходили к «плато», набрали еще материала. Остов одной опоры мы практически весь вынесли, от остановки остались только четыре трубы-столба, трансформатор в баке так и лежал на плите-основании остановки. Нашей целью были остатки мелкого металла, уголка, столб от дорожного знака, да столбы от остановки. Они тоже были металлические, их я планировал использовать как котел для пара. Кабеля еще отрубили кусок, в хозяйстве пригодится, нагрузили все это на волокушу, да и пошли-поехали к деревне. Вниз, к нашему поселку, волокуши спускались почти сами, по снегу, уклон позволял, поэтому за один раз много всего взяли.
Потом мы с Кукшей ходили к новому месту. Месту, где Первуша варил железо. Шли на лыжах, четверть дня затратили, вышли к болоту. Кукша знал про это место, отец брал его несколько раз с собой, учил ремеслу. Ну что сказать, не впечатлило меня. Не то чтобы я представлял себе металлургический комбинат, но увидеть перекосившийся сарай, полуразвалившуюся печь-горн, да шалаш, все это в окружении куч грязи и ошметков дров, я тоже не ожидал. Кукша начал меня просвещать:
— Вот это железо болотное, — пацан ткнул в кучи грязи, — это вот печь для варки, ее отец разбирал, когда железо доставал, тут вот в яме, смотри не упади, он уголь жег. Уголь смешивал с железом болотным, да и в печь клал. Потом грел сильно, долго, ждал пока остынет, разбирал печь, и доставал крицу. Вон место, где он глину на печь и на кирпичи брал.
— Крицу? Это что?
— Ну, такой вот кусок, — Кукша развел руками на пятнадцать-двадцать сантиметров, — железа. Только оно грязное железо, крица эта. Отец потом крицы эти привозил в кузню, да и отбивал. Половина, а то и меньше железа оставалась.
— А вот эти черные кучи? — я ковырялся во всем, до чего мог дотянуться, — Небось, из печки отходы?
— Ага, они негожие никуда, вот тут папка их и складывал.
— Ясно, ясно… Ясно, что ничего не ясно. Еще как железо делал? Только печь разбирал?
— Не, поначалу в горшках варил, укладывал железо болотное, да уголь древесный, да тоже грел. Горшок разбивал, крицу доставал. Только они еще меньше получались.
— Н-да, придется на старости лет еще и в горшечники заделаться… — я поставил валявшийся пенек, отряхнул его от снега, присел.
В руках вертел отколотый кусок того самого болотного железа. Отсюда было видно, что брал его Первуша и впрямь в болоте, вон ямы видны. Само «железо», руда, представляло собой кусок глины желто-красного, точнее ржавого, оттенка. Сам процесс, описанный Кукшей стал сюрпризом по форме, но не по содержанию. Давным-давно читал детскую книжку, там процесс получения различных металлов был описан. По ней выходило, что строили домну, в нее непрерывно засовывали слоями уголь и железную руду, продували горячим воздухом, и непрерывно же сливали чугун. Продутый кислородом чугун превращался в сталь. Запомнил я это потому, что размеры, указанные в книжке были колоссальными, и отдельно выделено предупреждение о том, что остановка процесса приводит к такому затвердению смеси руды и угля, что остановленную домну можно только разрушить, но не восстановить. Это в мой детский мозг впечаталось намертво. Еще бы, здание тридцать-пятьдесят метров высотой, сделанное из жаропрочного материала, приходило в негодность из-за простой остановки процесса!
Первуша делал также. Печь его была сделано по принципам доменной, просто непрерывности процесса он обеспечить не мог, вот и приходилось разбирать-собирать ее каждый раз. Да и выход по итогу был малым. Замучаешься так работать. Придется придумать процесс получше, плюс литье организовать, мне не улыбалось неделями молотком в кузнице махать. Решили сделать по-игнатьевски, то есть так, как все теперь в нашей деревне происходило. Опыты, эксперименты, увеличение масштаба, дальнейшие опыты, еще увеличение масштаба, эксперименты, промышленный образец. Поэтому мы набрали в рюкзаки руды болотной, угля у нас и своего куча, взяли кирпичей от печи, для образца, да и пошли на лыжах в сторону дома.
Прошли не долго. Кукша остановил меня, указал на какие-то следы.
— Лось прошел! Вон туда! — прошипел пацан, и показал мне направление.
— Лось — это хорошо. Давай, вперед иди, я за тобой потихоньку, — шепотом ответил я ему.
Мы двинулись по следу. Кукша скользил бесшумно, я за ним по проделанной им лыжне. Дошли до замерзшего ручья. Странно, кругом снег, а тут земля голая, метра два квадратных. Кукша поднял руку, это был наш знак «Внимание!». Я остановился, пацан снял лыжи и начал осматривать пятно. Потом быстро вернулся, нацепил лыжи:
— Туда зверь пошел! За ним быстро надо!
— Не заблудимся хоть? — я осматривал лес, кругом ни одного ориентира, только деревья.
— Не, по нашим следам обратно пойдем.
— Ну смотри, давай тогда за лосем.
Шли еще минут двадцать, на этот раз быстрее. Пока не услышали толи стон, толи всхлипы, толи вой.
— Волки!? — я схатился за Кукшу.
— Не, их следов нет, то лось воет так.
Прошли осторожно метров тридцать, и вышли на поляну. Посреди поляны был лось. Ну как посреди поляны, голова от лося торчала посреди поляны, да горб выглядывал. Остальное было под снегом. И вроде как подо льдом. Лось жалобно подвывал, изредка вскидываясь из снега. Мы обошли поляну вокруг. Животина нас заметила, начала нервничать, пытаться выбраться, но у нее не получалось, только еще жалобней стонала. Кукша достал лук. Мы стояли сбоку от лося, шея его подрагивала, одним глазом он косил на нас. Морда у него была жалостливая, печальная, да обреченная. У меня аж сердце заныло. Сидит животное, мучается в этой яме, а мы его убить собираемся. Блин, жалко. Я зверей с детства люблю. Мозг понимает, что нам кожа нужна, мясо, а вот душа не на месте.
— Погоди, — я положил руку Кукше на лук так, чтобы он стрелять не смог, — жалко зверя. Бегал видать тут, да в яму попал. Выбраться не может.
— Ну и что!? — Кукша моего пацифизма не разделял, — сейчас добьем, чтобы не мучался, да и в деревню оттащим, мяса будет много, кожи. Ты же сам говорил, что надо! Да и обувку сделаем. Кости на клей да на поделки разные.
Кукша был со всех сторон прав. А я так не мог. Ладно бы там гусь или курица, ну даже заяц на худой конец. Тут же туша здоровая, красивая, да и глаза как у человека почти. Ну ладно, не как у человека, как у коровы скорее. Да что же это делается-то со мной!
— Не, не дам, — я встал между лосем и Кукшей, — вот что хочешь делай, не дам завалить его.
Кукша опустил лук.
— Нет так нет, еще настреляем. Ты старший родич, тебе и решать. Только непонятно это…
— Да посмотри ты на него, — я показал на лося, тот, казалось, даже плакать начал, — тоже ведь живой. Сидит, пошевелиться не может. А мы его стрелой… Самому не жалко? С едой у нас пока нормально, кожа — да и хрен с ней, кости туда же. Тут вон красота какая загибается, еще и живая, а мы все о животе думаем… Мы же люди, умнее да сильнее их всех… Вроде как братья они нам меньшие… Я мы их стрелами…
Я опустил руки. Объяснить свое поведение Кукше я не мог. Как ему объяснить красоту природы для жителя города, если он на этой природе живет, а точнее борется с ней каждый день за выживание. Слова у меня закончились, пусть Кукша свое слово скажет.
— Братья меньшие… Ишь ты, как повернул, — пацан яростно зачесал нос, — а животину и впрямь жаль, то не охота, а убийство какое-то получается. Тот-то лось, которого я взял, когда мы с тобой встретились уже почитай сам кровью истек. А этот вон как смотрит… Делать-то чего будем?
Тут уже я начал чесаться, затылок в смысле чесать. Оставлять так его не хотелось, зверье съест. Мысль в голову пришла, дурнаа-а-а-я…
— Слушай, Кукша. Ты ж хотел коня. Коня у нас нет — давай лося заведем?
Кукша от такого «креатива» малость окосел.
— В смысле, как коня? Ездить на нем будем? Плуг таскать? На лосе!??
— А чего тут такого, — я вспомнил оленеводов в тундре, те вроде только на оленях и гарцевали, — вон на севере народ живет, чукчи да эвенки разные, так те на оленях катаются…
Похожие книги на "На дальнем кордоне (СИ)", Макеев Максим Сергеевич
Макеев Максим Сергеевич читать все книги автора по порядку
Макеев Максим Сергеевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.