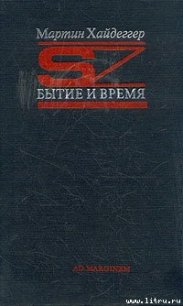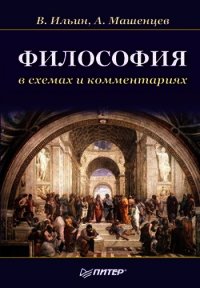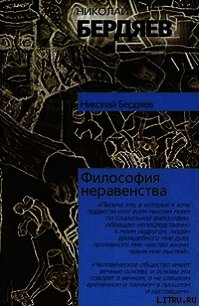О назначении человека - Бердяев Николай Александрович
Бог-Творец сотворил человека по своему образу и подобию, т. е. творцом, и призвал его к свободному творчеству, а не к формальному повиновению своей силе. Свободное творчество есть ответ твари на великий призыв Творца. И творческий подвиг человека есть исполнение сокровенной воли Творца, который и требует свободного творческого акта. Но творчество по метафизической своей природе есть всегда творчество из ничего, т. е. из меонической свободы, предшествующей самому миротворению. Этот элемент свободы, уходящий в добытийственную бездну, есть в каждом творческом акте человека, в творческом замысле и в творческом взлете. Человек в отличие от Бога в творчестве своем нуждается в материи, скульптор нуждается в мраморе, из которого высекается статуя, но не из этой материи, не из этого чего-то, взятого из мира, зарождается творчество. В творческий замысел всегда проникает элемент первоначальной свободы, свободы ничто. И из глубины этой свободы раздается ответ на Божий призыв. Поразительно, что эту свободу отрицают, когда речь идет о творчестве, и о ней вспоминают только тогда, когда речь идет о грехопадении, вине и наказании. Это и есть дефективность теологического мировоззрения, в силу которой оно не может оправдать и обосновать творчество человека. Природа творчества может быть понятна лишь в различении от рождения и в противоположении рождению. Творчество всегда из свободы, рождение же – из природы, из природной утробы. В рождении не столько творится небывшее, сколько отделяется и перераспределяется сила бывшего. Рождающий отделяет часть своей материи, своей природы. Абсолютно новое в мире возникает лишь через творчество, т. е. свободу, вкорененную в небытии. Творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы. В сущности, эволюционизм не допускает возможности творчества, ибо не знает свободы, знает лишь необходимость, для него возможно лишь рождение и перераспределение. Поразительно, что теологическое мировоззрение нередко совпадает с натуралистическим эволюционизмом в отрицании творчества. Не только зло, но и творчество объяснимо лишь из изначальной меонической свободы. Различие между рождением и творчеством установила теология для понимания внутренней жизни Св. Троицы и творения мира. Сын предвечно рождается от Отца. Мир же творится Богом, а не рождается от Бога. Так устанавливается близость по природе, единосущие в рождении и лишь подобосущие, различие по природе в творчестве. Но рождение и творчество в Боге и мире имеют разное значение. Рождение в мире всегда есть распадение и движение по линии дурной бесконечности, в Боге же оно не означает распадения. Творчество в мире есть творчество нового, небывшего, без распадения в творимом, без дурной бесконечности. Между творцом и его творением существует большая связь, чем между рождающим и рожденным. Человек должен в муках рождать вследствие греховного распадения мира. Творить же он должен сообразно идее человека, по призванию, сообщенному ему Творцом.
Космогония и антропогония понятны для нас лишь в свете Христовом. Учение о Христе – Новом Адаме совсем не есть только сотериология, и явление Христа не есть только исправление греха. Но и учение о миротворении можно строить только по принципу Троичности и памятуя о Христе. Его нельзя построить из монархической идеи Бога. Миротворение понятно лишь в свете мистерии Св. Троицы. Агнец заклан от сотворения мира. Божественная жертва изначально входит в план миротворения. Искупление есть вторичный акт миротворения, новое отношение Бога к твари, более совершенное, полное и высшее раскрытие Бога как жертвенной любви. Если бы даже не было грехопадения, то все равно было бы воплощение Сына, раскрытие Бога в жертве любви, т. е. новый космогонический и антропогонический момент. Проблема творчества есть прежде всего проблема свободы. Свобода же твари делается для нас окончательно понятной лишь в явлении жертвенного Лика Бога, лишь в богочеловеке. Ложь пантеизма прежде всего в том, что он принужден отрицать свободу человека и мира. Но ведь так же отрицает свободу твари и трансцендентный дуалистический теизм или допускает ее исключительно для нравственной ответственности человека. Не признает свободы и манихейский и гностический дуализм, полагая источник зла в злом боге или материи. Приходится признать, что в антиномиях Творца и твари свобода есть парадокс, не вмещающийся ни в какие категории. Монистическое и дуалистическое понимание отношений между Творцом и тварью одинаково ведет к отрицанию свободы твари. Человек не свободен, если он есть лишь явление Бога, лишь частица Божества, и человек не свободен, если он наделен свободой Богом-Творцом и ничего божественного в себе не заключает, и он не свободен, если зло проистекает от злого бога, от материи, в зависимость от которой он попадает. Все точки зрения оказываются опасными для свободы человека. Христианское учение о благодати и было попыткой спасти христианскую свободу. Человек не свободен, когда Бог определил свое отношение к нему как Творец мира, но он свободен, когда Бог определил свое отношение к нему, посылая ему благодать. Благодать человек свободно принимает или отвергает, но он не насилуется благодатью. Но и само учение о благодати подверглось перерождению, после которого оно вступает в конфликт с свободой. Если благодать действует на человека без всякого участия его свободы, то получается учение о предопределении. Единственный возможный выход есть признание несотворенности, т. е. нетварности свободы, ее вкорененности в ничто. Более рафинированные формы атеизма, как, напр., у Н. Гартмана, [20] основаны на конфликте идеи человеческой свободы и человеческого творчества ценностей и идеи Бога. Если есть Бог, то человек не свободен и не может творить ценностей. Точка зрения Н. Гартмана ложна, но нельзя отрицать серьезность проблемы, которая его беспокоит. Свободу человека трудно согласовать с существованием Бога, и свободу человека трудно согласовать с отрицанием Бога и признанием лишь одной небожественной природы. Идеальные ценности Н. Гартмана, совершенно бессильные и висящие в воздухе, тут не помогут. Непонятно, откуда берется свобода у человека, как существа исключительно природного. Парадокс в том, что свобода человека, без которой нет творчества и нет нравственной жизни, не от Бога и не от тварной природы. Но это и значит, что свобода не сотворена и вместе с тем не есть божественная свобода. Признание божественной свободы нисколько не решает вопроса о человеческой свободе. Такой же парадокс представляет отношение свободы и благодати. Благодать не только не должна умалять свободу человека, насиловать и лишать свободы, но должна увеличивать свободу человека, давать высшую свободу. Парадоксальность и трагичность проблемы свободы и благодати отразилась в спорах Бл. Августина с Пелагием, янсенистов с иезуитами, в учении Лютера о рабстве воли, в учении Кальвина о предопределении. Свобода человека сама по себе бессильна обратить человека к Богу, победить грех, победить собственную бездонную тьму, преодолеть свой собственный рок. Этого не понимал Пелагий. Благодать же исходит от Бога, а не от человека и не означает обращения человека к Богу, победу самого человека над злом и тьмой, не есть ответ человека Богу. С этим связана ошибка Кальвина и янсенистов. Бессильный характер человеческой свободы и нечеловеческий характер благодати составляют неразрешимый парадокс. Тайна Христа-Богочеловека есть разрешение парадокса свободы и благодати, но она не поддастся рационализации. Теология рационализирует эту тайну и этим лишает ее смысла, а не сообщает ей смысл. Лишь в Христе-Богочеловеке разрешается парадокс отношения твари и Творца. Это и есть сущность христианства. Творец и тварь, благодать и свобода – неразрешимая проблема, трагическое столкновение, парадокс. Явление Христа есть ответ на вопрошание, на трагическое столкновение и парадокс. Такова теологическо-антропологическая проблема, предваряющая этику. Отсюда падает свет на грехопадение и на возникновение добра и зла. Философская этика должна заниматься не только исследованием различений и оценок по сю сторону добра и зла, но и возникновением различений добра и зла и оценок. Проблема грехопадения есть основная проблема этики, без ее решения этика невозможна. Этическое есть порождение грехопадения.
Похожие книги на "О назначении человека", Бердяев Николай Александрович
Бердяев Николай Александрович читать все книги автора по порядку
Бердяев Николай Александрович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.