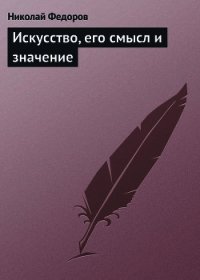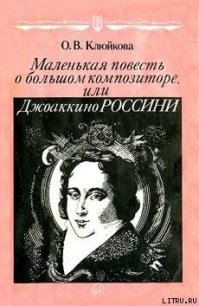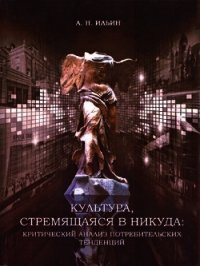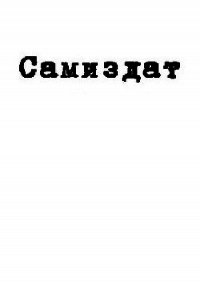Диалоги Воспоминания Размышления - Стравинский Игорь Федорович
Примечания. 1. Мое фортепианное переложение «Трех пьес из «Петрушки» датируется августом 1921 г. Артур Рубинштейн, которому я посвятил мою Piano Rag Music — надеясь поощрить его к исполнению современной музыки, — заплатил мне за эту вещь щедрую сумму в 5000 франков. (Дягилев заплатил мне всего лишь 1000 рублей за весь балет.) Кстати, я сам никогда публично не исполнял «Три пьесы» по той простой причине, что у меня недостаточна техника левой руки.
2. Я переделал «Петрушку» в 1947 г., преследуя две цели: возобновить авторские права на отчисления и аранжировать его для оркестра среднего состава. С самого первого исполнения у меня было желание лучше уравновесить оркестровое звучание в некоторых местах и ввести кое-какие усовершенствования в инструментовку. Оркестровая версия 1947 г. представляется мне гораздо более удачной, хотя многие считают, что музыка оригинального и пересмотренного варианта подобна двум геологическим формациям, которые не смешиваются. (III)
Р. К. Как случилось, что вы использовали в «Петрушке» мелодию «Деревянная нога»?
И. С. Эту мелодию играла шарманка каждое утро под моим окном в Болье, и поскольку мне показалось, что она подходит для сочинявшейся тогда сцены, я включил ее туда. Я не думал о том, жив ли автор этой музыки и не находится ли она под защитой закона об авторских правах, а Морис Деляж, бывший со мной, высказывал мнение, что «мелодия эта, должно, быть, очень старая». Потом, через несколько месяцев после премьеры, кто-то информировал Дягилева, что мотив сочинен неким м-ром Спенсером, еще здравствующим и живущим во Франции. Поэтому, начиная с 1911 г., часть авторских отчислений с «Петрушки» шла м-ру Спенсеру или его наследникам. Однако я упоминаю здесь об этом инциденте не для того, чтобы скорбеть о нем: я обязан платить за использование чьей-либо собственности. Но я не считаю справедливым, что должен платить, как мне приходится это делать, соавтору либретто шестую часть всех авторских отчислений со всех, даже концертных (не сценических) исполнений «Петрушки», даже с отрывков, вроде «Русской пляски».
Эпизод с «Деревянной ногой» мог повториться много позже с мелодией «Поздравляю с днем рождения» из «Приветственного прелюда», написанного мной к 80-летию Пьера Монтё (пьеса, которую я набросал в 1950 г. для неосуществленного проекта). Вероятно, я считал, что это народная мелодия или, по крайней мере, древнего и неизвестного происхождения. Но оказалось, что автор жив, хотя милостиво не требовал компенсации. (II)
Весна священная
Р. К. Что вы можете рассказать о сочинении, первой постановке и позднейших переделках «Весны священной»?
И. С. Замысел «Весны священной» зародился у меня еще во время сочинения «Жар-птицы». Мне представилась картина языческого обряда, когда приносимая в жертву девушка затанцовы- вает себя до смерти. Однако это видение не сопровождалось какой-нибудь определенной музыкальной мыслью, и поскольку вскоре у меня возник совсем другой музыкальный замысел, который стал быстро развиваться в Концертштюк для рояля с оркестром, как я думал, я и принялся за сочинение именно этой вещи. Я говорил Дягилеву о «Весне священной» еще до его приезда ко мне в Лозанну в конце 1910 г., но он ничего еще не знал о «Петрушке», как я называл Концертштюк, считая, что характер фортепианной партии внушает мысль о русской марионетке. Хотя Дягилев, возможно, был разочарован, услышав музыку не об «языческих обрядах», он никак этого не проявил. Придя в восторг от «Петрушки», он поощрял меня сделать из него балет, прежде чем приниматься за «Весну священную».
В июле 1911 г., после премьеры «Петрушки», я поехал в имение княгини Тенишевой под Смоленском, чтобы встретиться там с Николаем Рерихом и составить план сценария «Весны священной»; Рерих был хорошо знаком с княгиней, и ему очень хотелось, чтобы я ознакомился с ее русской этнографической коллекцией. Я поехал из Устилуга в Брест-Литовск, где, однако, обнаружил, что должен два дня ждать поезда на Смоленск. По сему случаю я уговорил проводника товарного поезда разрешить мне ехать в вагоне для скота, где очутился наедине с быком! Бык был привязан всего одной, не внушавшей доверия веревкой, и когда он стал сердито взирать на меня, я укрылся за моим единственным маленьким чемоданом. Я, наверное, являл странное зрелище, когда в Смоленске покинул эту корриду с довольно дорогим чемоданом в руках (во всяком случае, он не был похож на багаж бродяги), очищая свою одежду и шляпу с видом облегчения. Княгиня Тенишева предоставила в мое распоряжение домик для гостей, где мне услуживали горничные в красивой белой форме с красными поясами и в черных сапожках. Я занялся работой с Рерихом, и через несколько дней план сценического действия и названия танцев были придуманы. Пока мы жили там, Рерих сделал также эскизы своих знаменитых задников, половецких по духу, и эскизы костюмов по подлинным образцам из коллекции княгини. Между прочим, в то время наш балет носил русское
название «Весна священная». «Le Sacre du printemps» — название, придуманное Бакстом, годится только для французского языка. На английском название «The Coronation of Spring» (Венчание весны) ближе к моему первоначальному замыслу, чем «The Rite of Spring» (Весенний обряд).
Я начал думать о темах «Весны священной» сразу по возвращении в Устилуг, в первую очередь о теме «Весеннего гадания»; это и был первый сочиненный мной танец. Вернувшись осенью в Швейцарию, я поселился с моей семьей в пансионе в Кларане и продолжал работу. Почти вся «Весна священная» была написана в крохотной комнатке этого дома, скорее это был чулан площадью 8 на 8 футов, единственной меблировкой которого было небольшое пианино с включенным модератором (я всегда сочиняю с модератором), стол и два стула. Так было написано все от «Весеннего гадания» до конца первой части. Вступление писалось позднее; я хотел, чтобы Вступление передавало пробуждение весны, царапанье, грызню, возню птиц и зверей.
Танцы второй части были сочинены в том порядке, в котором они идут теперь; работа шла тоже очень быстро — до «Великой священной пляски», которую я мог сыграть, но вначале не знал, как записать. Сочинение «Весны священной» в целом было закончено в начале 1912 г. в состоянии экзальтации и полнейшего истощения сил; большая часть ее была также инструментована — в значительной мере это механическая работа, поскольку я обычно инструментую при сочинении — и готова в партитуре к концу весны. Однако заключительные страницы «Великой священной пляски» оставались незаконченными вплоть до 17 ноября; я хорошо запомнил этот день, так как у меня мучительно разболелся зуб, который я затем отправился лечить в Веве. После этого я поехал в Париж показать «Весну священную» Дебюсси и сыграть ее с ним на двух роялях — в моем собственном переложении.
Я торопился с окончанием «Весны», поскольку мне хотелось, чтобы Дягилев поставил ее в сезоне 1912 г. В конце января я отправился в Берлин, где тогда находилась балетная труппа Дягилева, чтобы обсудить с ним подробности постановки. Он был очень расстроен здоровьем Нижинского, о котором говорил часами. О «Весне священной» он сказал только, что не сможет поставить ее в 1912 г. Увидев мое разочарование, он попытался успокоить меня приглашением сопровождать его балетную труппу в Будапешт, Лондон и Венецию — дальнейшие этапы гастролей. Я действительно поехал с ними в эти города — всё они были мне тогда незнакомы, — и с того времени очень полюбил их. Настоящей причиной, почему я так легко принял отсрочку постановки «Весны», было то, что я уже размышлял над «Свадебкой». При этой встрече в Берлине Дягилев подстрекал меня использовать в «Весне священной» оркестр большого состава, обещая, что оркестр Русского балета будет значительно увеличен в следующем сезоне. Я не уверен, что в противном случае мой оркестр был бы таким большим.
Что премьера «Весны священной» сопровождалась скандалом, вероятно, уже всем известно. Однако, как это ни странно, я сам был не подготовлен к такому взрыву страстей. Реакция музыкантов на оркестровых репетициях не предвещала его,* а действие, развертывавшееся на сцене, как будто не должно было вызвать бунта. Артисты балета репетировали месяцами и знали, что они делают, хотя то, что они делали, часто не имело ничего общего с музыкой. «Я буду считать до сорока, пока вы играете, — говорил мне Нижинский, — и мы увидим, где мы разошлись». Он не мог понять, что если мы и разошлись в каком-то месте, это не означало, что во все остальное время мы были "вместе. Танцовщики следовали скорее за счетом, который отбивал Нижинский, нежели за музыкальным размером. Нижинский, конечно, считал по- русски, а поскольку русские числа после десяти состоят из многих слогов — «восемнадцать», например, — то в быстром темпе ни он, ни они не могли следовать за музыкой.
Похожие книги на "Диалоги Воспоминания Размышления", Стравинский Игорь Федорович
Стравинский Игорь Федорович читать все книги автора по порядку
Стравинский Игорь Федорович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.