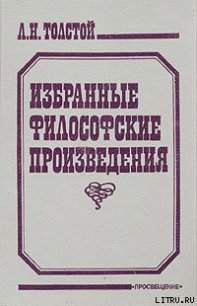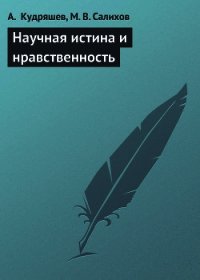Этическая мысль - Автор неизвестен
И точно так же, как обречены на неудачу все попытки "изъять" из памяти отдельного человека те или иные воспоминания, коль скоро он остается человеком (а не превратился, скажем, в манкурта), оказываются в конечном итоге безуспешными и попытки "укоротить" память народа, коль скоро он остается народом (не превращен в безликое скопище манкуртов). Ведь память народа, как и отдельного индивида, едина и неделима, как едино и неделимо его самосознание. Альтернативой такого единства самосознания (если это допустимо называть альтернативой) может быть лишь его раздвоение, растроение, расчетверение и т.д., то есть распад - состояние, известное в психопатологии как остро болезненное.
Так выглядит соотношение памяти, самосознания и культуры в свете нравственно-философского осмысления легенды о манкурте, художественно возрожденной Чингизом Айтматовым.
ПАМЯТЬ О ГОЛГОФЕ
Рассуждая о культуротворческой миссии собственно человеческой памяти, мы натолкнулись на существенно важный философский вопрос (раскрывший затем также и свой этический подтекст), более углубленное рассмотрение которого побуждает обратиться к другому роману Чингиза Айтматова - "Плаха" [1]. Это вопрос об участии нашей памяти в некотором онтологическом процессе конституирования человеческого бытия, развертывающегося как исторический процесс превращения будущего (человеческие идеалы и мечты, цели и желания) в настоящее, настоящего - в прошлое. Согласно стержневой идее айтматовской "Плахи", совершается это превращение не по произволу. А лишь потому, что оно уже было "задано" до этого в Бесконечном. В том, что является решающим "условием возможности" человеческого существования вообще, человеческой истории с ее прошлым, настоящим и будущим. Причем собственно человеческая память находится в глубочайшей, субстанциальной связи с этим онтологическим началом. Для того чтобы разобраться в такой особенности культурной памяти человека и, в конечном счете, памяти культуры, устремленной в будущее, но укорененной в вечном, обратимся к рассмотрению айтматовского символа "Бога-Завтра" из романа "Плаха".
1 Так переведено на неконфессиональный язык евангельское "Голгофа".
"Так знай, правитель римский, - говорит в романе Христос, обращаясь к Понтию Пилату, - промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе, в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади (вот оно - прошлое, а точнее "из-вечное", вневременное во времени, осуществляемое в будущем: в ходе человеческой истории, несводимой к одной лишь "чистой" "временности". - Ю. Д.), в том Промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его - призвания к добру и красоте" [1].
1 Айтматов Ч. Плаха М, 1987 С 153
Опыт переживания истории - мистерия культурной памяти человечества предстает здесь как обращенный в будущее возврат человечества к тому (временно-вневременному) событию, в котором нашла свое глубочайшее выражение, свое истинное водлоще-ние идея его исторического предназначения, его высочайшего призвания. "Но путь тот будет наитягчайшим средь всех для рода людского и бесконечно долгим. Путь этот начнется с рокового дня, с убиения Сына Божия, и в вечном покаянии (вот она память, взятая в ее этической ипостаси. - Ю. Д.) да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям!" [2]
2 Там же.
Мистерия распятия - это, как видим, не единовременный акт, которым автоматически решается судьба всего человечества. Полноту и целостность своего смысла она обретает лишь в дальнейшем развертывании в мистерию памяти-покаяния всего человечества. Памяти культуры о том, что свершилось однажды, но свершилось так, что сразу же обнаружило свою сверхисторическую природу. Свершившееся однажды взывало к повторению. Оно свершалось вновь и вновь и в культурной памяти человечества, и в конкретных поступках отдельных людей. В тех самых поступках, из которых складывалась реальная история - история новых и новых восстаний человека во имя добра, против своего антипода - "вселенского зла". Так в романе "Плаха" находит свое продолжение идея предыдущего романа - идея культуротворческой, культуросози-дающей памяти. Той самой памяти, что заставляет день длиться "дольше века", более того, дольше веков и тысячелетий. Ибо этот "день" именно благодаря памяти, преодолевающей однократность всякого "теперь", связующей прошлое, настоящее и будущее, оказывается вневременным, сверхвременным - вечным. В этом своем аспекте культурная память человечества предстает как начало вечности, божественное начало в каждом из нас, которые все вместе являются ее носителями.
Но таким образом не только получает свое дальнейшее - обновленное развитие (и новую расшифровку) одна из важнейших нравственно-философских идей романа "И дольше века длится день". В свете этой идеи уточняется, корректируется, дополняется до целого основополагающая концепция романа "Плаха" - концепция "Бога-Завтра". Она утрачивает оттенок субъективизма, в котором, по сути дела (выражающей философский смысл критических возражений Айтматову), упрекали и продолжают упрекать автора "Плахи". "Бог-Завтра" не исключает ни у самого Айтматова, ни у его героя Авдия Каллистратова того изначального нравственного события, которое явилось, говоря словами И. Г. Фихте, бесконечным толчком, призванным подвигнуть человечество на путь борьбы за это "Завтра".
Похожие книги на "Этическая мысль", Автор неизвестен
Автор неизвестен читать все книги автора по порядку
Автор неизвестен - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.