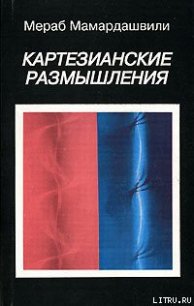Лекции по античной философии. Очерк современной европейской философии - Мамардашвили Мераб Константинович
Еще одно отличие состоит в том, что зло и бесчестье не суть позитивные явления. Объяснение этого, может, будет извилистым, но оно упростит нам понимание сути дела. Для этого нужно вспомнить то, что я говорил об усилии. Я говорил, что в человеческом сознании есть некоторые вещи (и именно с ними связана философия), которые должны делаться, в отличие от вещей, которые делаются сами, или натуральным сцеплением причин и действий, стихийно, натурально. В этом смысле можно сказать, например, что ум — это то, что мы думаем, а глупость — то, что думается независимо от нас. Философия и наука суть техники ума, техники создания в себе таких состояний, которые натуральным ходом событий и вещей не создаются. А что создается? Естественным образом нам приходит в голову только глупость, причем подчеркиваю, что слова «ум» и «глупость» философом употребляются не в психологическом смысле, то есть независимо от того, что мы называем способностями (мы обычно ум и глупость рассматриваем прежде всего с точки зрения психологических способностей отдельных людей: вот один одарен умом, другой глуп, у одного такие-то способности, у другого другие). Философия никакого отношения к способностям людей не имеет, она считает, что при прочих равных обстоятельствах все это не имеет никакого значения и увидеть ум может каждый совершенно независимо от биологических склонностей, данностей своего человеческого аппарата.
Я сказал, что ум — это то, что мы можем подумать, если постараемся и если нам повезет. А когда не постараешься, то стихийным процессом вокруг нас, вне нас и независимо от нас подумается и придет в голову — что? Глупость. Это же относится, кстати, и к бесчестью, и ко злу. Что это означает? Это означает, что злом называется нечто, что появляется в пустоте, оставленной несделанным добром, или в переводе на простой русский язык (и я снова возвращаюсь к гению языка) мы говорим: свято место пусто не бывает. Это место, которое должно быть заполнено, например, нашим умом. А мы не приложили усилие, не выдержали напряжение, без усилия же нет ничего, — так вот, свято место пусто не будет, оно будет обязательно заполнено спонтанным, натуральным действием сцеплений, например идеологических, которые внесут на пустое, святое место то, что мы назовем злом, бесчестьем, бессовестностью и так далее.
Тот ход, который я сейчас проделывал, он проделывался в истории человеческой мысли (это нечто вроде отрицательной метафизики), он проделывался и в области религиозной мысли, скажем, в таких течениях христианства, где сатана и дьявол не рассматриваются как реально и позитивно существующие явления. Поэтому я и сказал, что зло отличается от добра тем, что зло не есть позитивная, реальная сила; это есть нечто, что появляется в той пустоте, которая не заполнена человеческим деянием, или напряжением, — быть, сбыться, стать! И вот теперь мы понимаем смысл той фразы, которую я уже однажды обронил. Мы понимаем, почему там фигурировало слово «дьявол». Я сказал: «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно», имея в виду некоторые особенности современного социального и социально-утопического мышления. Я имел в виду ту вещь, которую я теперь объяснил. Под точным мышлением нужно понимать мышление, заполняющее святое место, которое специально оставлено пустым для нашего усилия, для нашего напряжения, для того, чтобы мы сбылись в этом месте, а если мы не сбылись, то оно заполнится глупостью. В случае мышления мы можем сказать так: дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно.
Это связано и с проблемой мастерства в философском смысле этого слова. Философия, повторяю, не только антипсихологична, но она и (как бы это выразиться?) «антинамеренческая». Мы обычно пользуемся словом «намерение»: человек хотел того-то, намеревался сделать то-то и то-то и так далее. Философия пытается рассуждать так (или всякий человек как философ пытается строить себя так), чтобы не вносить язык намерений в то, что делается, потому что все, что делается, есть не человеческое состояние — эмпирическое, психологическое (желания, стремления), а искусство, или мастерство. Вы знаете, что дорога в ад вымощена благими намерениями, в том числе и литературный акт <тоже может быть дорогой в ад, вымощенной добрыми чувствами>. А ведь литератор знает, что добрыми чувствами не пишутся романы по одной простой причине, что добро, порождаемое романом или содержащееся в нем, есть искусство, или в переводе на язык, возвращающий нас к тому, о чем я говорил, скажем так: добро есть точность мышления, до конца сработанная вещь; она есть носитель добра, а не наше намерение.
Я уже вашим коллегам здесь рассказывал (в лекциях по античной философии[156]) о моем любимом писателе детективных историй — есть такой американец, Раймонд Чендлер, который в предисловии к сборнику своих рассказов, описывая разные жанры детективной литературы (в том числе английский детектив), иронически говорит о том, что писатели часто хотят написать хорошую, честную прозу. «Намерения есть такие, и в этих намерениях я не сомневаюсь», — говорит он. И дальше в этом контексте он роняет фразу, которая глубоко совпадает с моими убеждениями. Чендлер говорит: «Но они не понимают, что честность — это искусство, а не намерение». Честность — это искусство, а не намерение.
Так вот, рассказывая обо всем этом, я обрисовываю фактически поле [философии] на, казалось бы, бытовых примерах, хотя для того, чтобы пояснить бытовые примеры, мне пришлось залетать очень высоко, хватать бога за бороду, но наш быт, очевидно, таков, что в нем бытовó присутствует нечто высокое. И тем наш быт отличается от животного быта. (...)
ЛЕКЦИЯ 10
Продолжим наши занятия. Мы остановились в прошлый раз на проблеме редукции, или эпохé, которую я пытался объяснить, показывая обнаруженную философами особенность работы сознания, которая состоит в том, что сознание, будучи переплетением и иерархией разных гетерогенных структур, работает так, что одни слои сознания выражаются в терминах других — скажем условно, более высоких слоев сознания — и движутся в формах этих последних. Поэтому и возникает проблема редукции как такая проблема, решение которой предполагает технику, условно скажем, притормаживания, придерживания, нейтрализации или подвешивания неких спонтанно и автоматически срабатывающих мысленных привычек, терминов, представлений, семантических связей, ассоциаций, метафор и так далее. Эти последние, которые нужно как-то придерживать, нейтрализовывать, подвешивать, мы назвали натуральным, или предметным, представлением о мире.
Когда, разбирая проблему феномена, мы пришли к заключению, что сколько явления, столько и бытия, то мы тем самым не сказали, что нет бытия. Мы не сказали, например, что цвет, ощущение цвета не складывается из физических характеристик световых волн. Мы лишь сказали: давайте придержим суждение об этом. Повторяю, когда мы сказали, что нет никакого другого бытия, помимо бытия явления, или помимо того, что говорит явление о самом себе (или помимо того, что есть в явлении), мы не сказали, что нет бытия помимо того, что есть в явлении. Мы лишь сказали следующее: давайте нейтрализуем суждение об этом бытии; бытие есть, но давайте его подвесим и посмотрим, что будет. Короче говоря, то, на что направлена редукция, есть некоторое состояние сознания, некоторое вúдение, некоторое показывание чем-то самого себя, которое выступает при этой странной процедуре блокирования, или придерживания, суждений. Мы не отменили содержания суждения, мы придержали суждение — и тогда нечто выступит. Когда я говорю, что я вижу нечто, привинченное к ногам человека, совершающего странные движения на ледяной поверхности, я не отменяю коньки, я просто придерживаю сцепление привычных семантических, причинных и других связей в моем сознании, и тогда передо мной выступает (может выступить) нечто, то, что я действительно вижу, — феномен.
Можно рассуждать так, что в рамках нашей культуры возникла наука, которая представляет собой определенный тип мышления, определенный тип исследования, и эта наука, пользуясь определенными экспериментальными процедурами, определенными способами объективации своих утверждений, показала, что мир состоит, например, из атомов, или атомных структур, что в мире есть физические волны, действующие на наш аппарат отражения, что Земля является частью планетной системы, что есть галактики, частью которых является, в свою очередь, вся Солнечная система, и так далее, и все дело в том, что наше обыденное сознание, наше восприятие мира, даже в том виде, в каком оно не формируется внутри науки, — оно тем не менее, как капиллярными сосудами, пронизано терминами науки. Они проникают в нашу культуру, в наше обыденное сознание и некоторые наши переживания, и мир нашего сознания начинает выражаться через термины науки.
Похожие книги на "Лекции по античной философии. Очерк современной европейской философии", Мамардашвили Мераб Константинович
Мамардашвили Мераб Константинович читать все книги автора по порядку
Мамардашвили Мераб Константинович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.