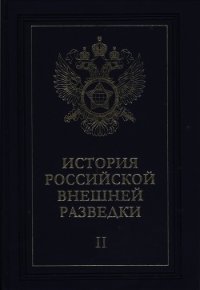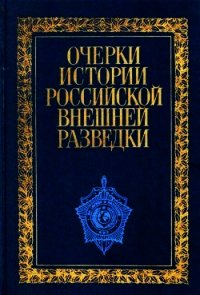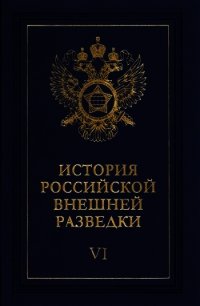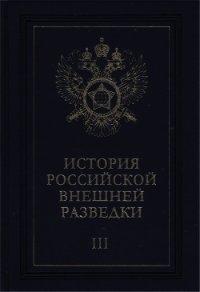Очерки истории российской внешней разведки. Том 5 - Примаков Евгений Максимович
Среди этих людей были медицинские работники, учителя, служащие государственных учреждений, главным образом молодые или среднего возраста мужчины и женщины. По понятным причинам мы не вправе разглашать их имена, и поэтому, рассказывая о некоторых из них, ограничимся присвоенными им псевдонимами.
Афганистан — многонациональное государство, где основной нацией являются пуштуны, исторические создатели афганской государственности. Национальный вопрос всегда остро стоял в этой стране. Если спросить афганца, кто он по национальности, ответ будет обычным: я — афганец, или: я — мусульманин, но если уточнить, из какого племени, то можно услышать: из таджиков, из персов, из такого-то пуштунского племени. Непуштунские народности населяют в основном северные провинции Афганистана, и именно там осела значительная часть эмиграции из СССР после Гражданской войны и разгрома басмаческого движения в Средней Азии.
В годы Второй мировой войны и до нее, когда позиции фашистской Германии в Афганистане были сильны, афганские власти рассматривали эмигрантов из СССР, а заодно и коренное население Севера в качестве потенциальной силы против Советского Союза, но после войны увидели в них потенциальную силу против самих себя. В Кабуле считали, что это население ввиду его этнического единства с народами Средней Азии является базой для деятельности советской разведки. И не случайно в правящих кругах страны вынашивались планы кардинального решения этой проблемы: предполагалось выселить коренное население севера в другие районы Афганистана, а на его место переселить часть пуштунских племен с юга и юго-востока. Эта программа была реализована лишь частично: к 1951 году в северные провинции было переселено более 10 тысяч семей пуштунов, которые были обеспечены земельными наделами и средствами для устройства на новом месте. Сколько было выселено коренного населения, осталось неизвестным.
Агентурная сеть кабульской резидентуры позволяла знать о настроениях в афганской верхушке и ее мероприятиях по контролю за северными провинциями страны. Король Захир Шах и в особенности премьер-министр Хашим Хан (1933–1946 гг.) всерьез опасались в 1946 году, что «СССР намерен отхватить часть Афганистана по примеру Иранского Азербайджана». Они не раз публично заявляли: «Мы, афганцы, будем драться до последнего за свою землю».
Афганское правительство длительное время проводило политику насильственной пуштунизации таджиков, узбеков, туркмен и других национальностей, проживавших на севере страны. Обязательным было изучение языка пушту, само слово «таджик», например, официально не употреблялось, его заменили на «кухистанец».
В 1946 году кабульские власти решили провести поголовную паспортизацию всего населения северных провинций. Туда были направлены новенькие паспорта в большом количестве, и в Мазари-Шарифе, Герате и других городах началась кампания по установлению эмигрантов и прочих лиц, не являющихся подданными Афганистана. Их вносили в специальные списки, которые пересылались в Кабул для принятия «отдельного решения».
Территория Афганистана, в особенности его северные провинции, контролировались службой безопасности, полицией, жандармерией и погранкомиссарами, которые имели широкую агентурную сеть. Кроме того, в каждом селении имелись квартальные старосты. Они буквально сразу же узнавали о появлении на вверенной им территории любого неизвестного или постороннего человека. Хозяин дома, к которому приходил такой человек или же обращался к нему за помощью, был обязан под страхом наказания немедленно сообщить о нем квартальному старосте или в полицию. Если он по каким-то причинам этого не делал, то его сосед должен был донести и на хозяина, и на неизвестного пришельца. Наконец, в каждом населенном пункте был мулла, который знал все обо всех. Миновать такую густую сеть слежки и доносов было практически невозможно. Оказавшись в Афганистане, наши агенты-нелегалы неизбежно попадали в поле зрения местного населения, после чего их арестовывали и заключали в тюрьму.
Кабульская резидентура в 1945–1946 годах неоднократно информировала Центр о поимке советских агентов, заброшенных в Афганистан из СССР. Так, в январе 1946 года на основании агентурных данных она сообщила, что «три месяца назад афганцы задержали в районе Шинданда (Гератская провинция) трех советских разведчиков, идет поиск еще четырех, заброшенных в район Мазари-Шарифа, в районе Кундуза был задержан еще один советский разведчик». В конце января того же года начальнику Первого управления НКГБ СССР П.М. Фитину было доложено об аресте афганскими властями в г. Ханабаде двух местных жителей, у которых были обнаружены радиостанция и разведывательные документы. Затем были произведены аресты еще нескольких лиц в ряде городов Северного Афганистана.
В те годы от надежной агентуры поступала информация о том, что король Захир Шах, премьер-министр Хашим Хан, министр внутренних дел Навруз Хан и другие афганские официальные лица в узком кругу говорили о поимке советских агентов, заброшенных в Афганистан из СССР.
Общее число выведенных в Афганистан агентов-нелегалов нам не известно, поскольку сведений на этот счет в архивных материалах СВР нет, но было их по меньшей мере два-три десятка. Их провалы вскоре после скрытого пересечения границы были вызваны, с одной стороны, слабой подготовкой, плохой зашифровкой и неосторожным поведением на территории Афганистана, а с другой — упомянутой выше всеохватывающей системой сыска, доносов и слежки, которая царила в стране в годы правления премьер-министра Хашим Хана. Арестованных советских агентов судили и приговаривали к длительным срокам тюремного заключения. Условия их содержания в местах лишения свободы были крайне тяжелыми. Многие не выдерживали пыток и избиений во время допросов, другие погибали во время отбывания наказания, но были и такие, кто сумел приспособиться, войти в доверие к тюремному начальству и становился надсмотрщиком над своими товарищами.
Трагически сложилась судьба радистки «Мухабат», которой ко времени ее вывода в Афганистан исполнилось 20 лет. Ее задержали с поличным: у нее обнаружили рацию, оружие и другие уликовые материалы. Она была тут же препровождена в Кабул, где ей учинили допросы с пристрастием. Ее осудили на длительный срок лишения свободы и долгое время содержали в так называемом «зиндане» — тюремной камере под землей с решетками наверху. Там здоровье молодой женщины было почти полностью подорвано, цветущая девушка превратилась в старуху.
До середины 50-х годов никто в СССР не поднимал перед афганскими властями вопроса об освобождении наших граждан, о них как бы забыли, будто они не существовали вовсе. Обстановка изменилась, когда к власти в Афганистане пришел премьер-министр М. Дауд, который решительно пересмотрел состояние афгано-советских отношений. В годы его правления (1953–1963 гг.) советско-афганские отношения получили развитие, началось крупномасштабное сотрудничество между двумя странами, к концу 50-х годов в Афганистане работали тысячи советских специалистов. В этих условиях оставлять без реакции и внимания вопрос о томившихся в афганских тюрьмах советских людях было уже просто кощунственным. Тем более что в 50-60-е годы достаточно регулярно происходили встречи советских руководителей с королем Захир Шахом, премьер-министром М. Даудом и другими афганскими официальными лицами.
Однако ни Н.С. Хрущев, ни другие руководители СССР того времени, посещавшие Афганистан или принимавшие в Москве представителей высшего афганского руководства, не хотели брать на себя ответственность и поднимать перед афганцами вопрос о судьбе советских граждан, отбывавших наказание в афганских тюрьмах. Как правило, этот вопрос «спускался» на уровень МИД СССР и нашего посольства в Кабуле, да и то с оговорками, что ставить его перед афганской стороной следует при удобном случае и осторожно. При таком подходе наши робкие попытки добиться освобождения бывших агентов-нелегалов неизменно наталкивались на отрицательное отношение афганских властей соответствующего уровня. Они обычно ссылались на то, что «эти лица совершили особо тяжкие преступные деяния против Афганистана», и вопрос оставался в подвешенном состоянии, перспективы его решения были неясными.
Похожие книги на "Очерки истории российской внешней разведки. Том 5", Примаков Евгений Максимович
Примаков Евгений Максимович читать все книги автора по порядку
Примаков Евгений Максимович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.