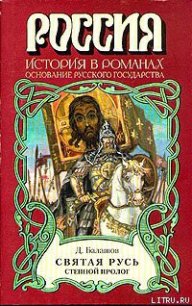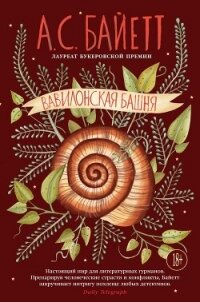Похвала Сергию - Балашов Дмитрий Михайлович
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 57
– Да и тово, под рукой у московита будем! Тута словно бы вороги князю Ивану, а тамо – свои, чуешь? Гляди, в московскую Думу попадем с тобой! – Ударив Кирилла по плечу, полез на коня.
О думе не путем, конечно, сбрехнул Онисим, но хоть не платить десять летов даней-кормов, хоть не давать поганого выхода ордынского, не видеть безобразного грабежа в дому своем!.. В самом деле, на землях московских и мы, почитай, станем для московитов свои…
Отъехал Онисим, и новые страхи объяли, и пошли пересуды да толки с роднею-природой. А уже и то было ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь, не отдышишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой…
Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил, как о решенном:
– Едем в Москву!
– В Радонеж! – поправил брата Варфоломей, которому сразу понравилось незнакомое слово. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил опять нетерпеливо:
– На Москву! – Умчался, как убегал когда-то в детстве, отмахиваясь от маленького братишки. Как там будет, что и кая труднота ожидает их, не важно! В жизни, в коей поднесь всё только рушило, исшаивало и меркло, появилась цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, обложивших окоем, – предвестие ясных, радостных дней. На Москву!
Варфоломей вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога подгнившую ступень, спустился в сырь просыхающего сада.
Была та пасмурная пора весны, когда всё еще словно бы медлит, не в силах пробудиться ото сна. Небо мглисто. Снег уже весь сошел, и лишь кое-где мелькнет в частолесье ослепительно-белый на желто-сером ковре измокших, омертвелых трав случайный обросок зимы. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью паутину берез. И если бы не легчающий воздух, сквозисто и незнакомо, печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять – весна или осень на дворе?
Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее к нему одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака…
Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства? Или шевельнулось то, смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица, – то смутное, что называют юностью? Только-только еще задевшей Варфоломея своим незримым крылом! А уже и означило край пушистого, нежного, мягкого и ясного, зовущегося детством. Да, детство готовилось окончиться в нем, а юность еще только собиралась вступить в свои права. Еще не скоро! Еще не подошла сумятица чувств, и глухие порывы, с первыми проблесками мужественности, – хоть и рано взрослели дети в те века, – но уже в обостренной отстраненности взора, коим обводил он родное и уже как бы смазанное, как бы полурастворившееся в тумане, жило, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд.
Было совсем тихо, и поблазнилось на миг, словно и правда уже вымерло всё и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, как вышел, в одной посконной рубахе, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем, невестимо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому, – это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский город Радонеж – совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре; сейчас об этом не думалось.
Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.
– Господи! – прошептал он, поднимая лицо к небу, – Господи!
Юность! или горний знак Господень? или весна? Коснулось незримое, овеяв его чело. На миг, на долгий миг, исчезло ощущение холода и земной твердости под ногами, и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.
Глава 25
Все это лето, последнее лето в родимом дому, готовились к отъезду.
По совету Якова решили се-год паровое поле засеять ячменем.
– Попервости хоша коней продержим! – горячо втолковывал Яков Кириллу.
– Коней заморить – самим погинуть! А к Петровкам беспременно в Радонеж послать косцов! Сенов отселева не увезешь! По осени пошлем лес валить на хоромы, а на ту вёсну – всема! – Он решительно рубил рукою воздух, словно обрубая незримые корни ихнего житья-бытья. – Всема! С жёнками, с челядью, со скотиной…
Замолкая, Яков угрюмился, тяжело круглил плечи. Решаться на переезд тяжко было и ему.
Подымали пашню, садили огороды. Не по-раз приезжал доверенный отцов гость торговый, о чем-то толковали, передавали из рук в руки тяжелые кожаные кошели. Уводили со двора скотину, увозили останние запасы, обращая тяжелый сыпучий товар в веское новогородское серебро. Гость забирал Кириллову лавку в торгу, уходили в обмен на серебро мельница, рыбачья долевая тоня на Волге и полдоли на озере Неро (вторая половина уже была продана летось в уплату ордынского выхода). Перетряхивали портна, камки, сукна и скору. Береженные на выход дорогие парчовые одежды Кирилловы решили тоже продать. На думное место при московском князе всё одно надежды никакой не было!
Вечерами родители спорили, запершись:
– Грабит тебя Онтипа твой! – сердито бранилась Мария. – Шесть гривен новогородских за озерный пай, эко! Да ниже восьми гривен то место николи не бывало! Могли бы и пождать-тово!
Кирилл, успокаивая, клал ладони на плечи жены, бормотал, что зато, мол, тотчас и серебро в руках… Сам чуял, что дешевит, да уж невмочь было. Дал бы волю себе и все бросил даром!
Стефан меж тем нешуточно впрягся в хомут. Летал на коне, покрикивая на холопов, в охоту брался за рукояти сохи, работал до поту, до остервенения. Варфоломей с Петром тоже не сидели без дела. У всех у них было радостно-неспокойное, тревожное чувство на душе, и хотелось работою загасить, отодвинуть то боязливо-горькое, что нет-нет да и пробивалось сквозь дневную суету и упоение неведомою судьбой. То поблазнит вдруг: как это так, что другорядным летом не будет уже ни родимой речки, ни поля, ни рощи знакомой, ни пруда; не придут славить с деревни, не завьют уже девицы березку будущею весной? Как это так: привычного, детского, своего – ничего-ничего уже и не будет?
А то вдруг матушка, разбирая укладки и скрыни, вдруг горько заплачет над какой-нибудь памятною полуистлевшей оболочинкою и долго не может унять слез, мотая головою, немо отталкивая от себя робкие утешения сыновей…
Но и вновь, скрепив себя, берется мать за работу, вновь бегают девки, спешат потные, горячие от работы мужики, вновь Стефан, врываясь в терем и соколиным зраком глянув по сторонам, орет:
– Петюха! Живо! К Герасиму скачи! Пущай шлет возы не стряпая!
И тот срывается в бег, торопясь исполнить братний наказ.
– А ты что тут? – запаленно накидывается Стефан на Варфоломея. – Матери потом поможешь, зерно вези! На Митькин клин! Тамо у севцов уже одни коробьи остались!
В жаркой работе, в заполошной суете и трудах проходило лето. О Петрове дни отсылали косцов на новые места. Покосников в Радонеж провожали торжественно. На отвальной усадили всех за боярский стол. Словно уже и сравнялись господа с холопами. Да, впрочем, и Яков ехал с косцами, в одно. Мать с девками сама подавала на стол. Кирилл сидел чуть растерянный, чуть больше, чем надобно, торжественный, во главе застольной дружины. Косари сперва чинились, поглядывали на господ. Но вот по кругу пошло темно-янтарное пиво и развязало языки, поднялся шум, клики, задвигались, загалдели, хлопая друг друга по плечам, косари, и в боярских хоромах повеяло простым братчинным деревенским застольем.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 57
Похожие книги на "Вавилонская башня", Байетт Антония
Байетт Антония читать все книги автора по порядку
Байетт Антония - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.