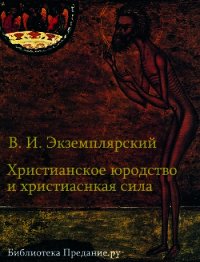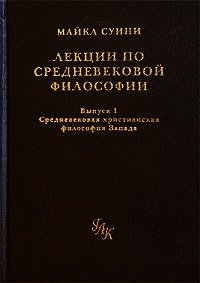Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1 - Пеликан Ярослав
Особая форма сотериологического аргумента, наиболее уместная в учении о Святом Духе, — доказательство от крещения; оно особенно для этого подходило (хотя не только в этом случае), так как защитники Никеи и раньше активно пользовались крещальной формулой из Мф 28:19, обвиняя арианство в смешении Творца и твари. Афанасий предложил собственную тринитарную интерпретацию: «Когда дается крещение, тот, кто крещается Отцом, крещается и Сыном; и кто крещается Сыном, тот освящается Святым Духом». Однако сама эта интерпретация предполагала особую связь между крещением и Святым Духом. Ибо, если Дух не принадлежит собственно Божеству, «как Он может обожить меня посредством крещения?» Этот аргумент от крещения, выдвигаемый против отрицания божественности Святого Духа, служил для Афанасия «достаточной» и наиболее убедительной демонстрацией того, насколько пагубно это отрицание; «ибо отвергать это или неправильно толковать значит подвергать риску само спасение». Возрождение благодатью, данной в крещении, — вот божественный путь спасения, утверждал Василий, так что отрицать божественность Святого Духа значит отвергать сам смысл спасения; и этим исповеданием он надеялся защитить себя в день Суда. Возрождение происходит посредством крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Если последний из поименованных есть тварь, тогда «тайноводство, которое, по мнению нашему, ны совершаете, так мудрствуя, совершается не всецело в Божество». Однако быть христианином значит освободиться от поклонения тварям и креститься в единое Божество Троицы, а «не в многобожное множество».
Не только дар крещения, но и сама крещальная формула представляла собой доказательство. Без имени Святого Духа формула была бы неполной, а крещение — недействительным. Василий особенно энергично настаивал на том, что не ортодоксия в своем тринитаризме, а Христос в крещальной формуле «ставит Духа наряду с Отцом и Сыном». Поэтому он убеждал своих оппонентов «сохранить Духа неотлучнымот Отца и Сына, соблюдая учение о крещении и в исповедании веры, и в славословии». Упоминание о славословии было продиктовано нападками на него за употребление в литургии обеих формул: «Слава Отцу с Сыном [μετά] вместе со [συν] Святым Духом» и «Слава Отцу через [διά] Сына во [εν] Святом Духе». Именно выражение «со Святым Духом» представлялось новацией, ибо оно ставило Духа на один уровень с Отцом и Сыном. Василий отвечал, что именно по этой причине «отцы наши не без рассуждения приняли в употребление предлог "с"» и что это сохранилось в литургическом языке простого народа. Если литургическое словоупотребление является авторитетным для догматического исповедания, не следует делать исключения и в этом случае. И это славословие не является единственным примером литургического учения о единоотции: ибо в песнопении, которое поется каждый вечер при возжигании лампад, народ сохранил древнюю формулу: «Хвалим Отца, Сына и Святого Духа Божия».
Вместе с тем описанные нами процессы развития учения о божественности и единосущии Святого Духа одновременно предполагали и давали толчок к развитию более адекватного учения о Самой Троице. Поэтому Афанасий смог задаться вопросом: «При таковом союзе [συστοιχία] и при таковом единстве во Святой Троице, кто станет отделять или Сына от Отца, или Духа от Сына и от самого Отца?» Используя тот же философский термин, указывающий на принадлежность к одному роду или разряду, и применяя его к крещальной формуле в Мф 28:19, Василий утверждал: отношение Духа к Сыну — то же, что Сына к Отцу, и эта согласованность абсолютно исключает какое-либо понятие о подчинении. Согласно этой аргументации, божественность Святого Духа выводилась логически как прямое следствие изучения о Троице: «Если Один был от начала, то были Три», и по- этому Дух божественен. Афанасий, напротив, очень мало использовал учение о Троице, отстаивая божественность Сына; и самое полное — хотя все равно очень краткое — изложение тринитарного учения, содержащееся в корнуге сочинений Афанасия, связано с аргументацией в пользу божественности Святого Духа. Явная непоследовательность мысли Дидима (сначала он утверждал, что существует согласованность между действиями Отца, Сына и Святого Духа и их усией, а затем — что нельзя сделать вывод о природном различии между ними на основе различия их действий) не могла быть прояснена без полноценного учения о Троице, в котором единство и многообразие было бы сформулировано более точно в рамках систематической теории и с использованием технических терминов, устраняющих неправильное понимание или уход от прямого ответа. Разработка такого учения стала достижением тех же людей, чье учение о Святом Духе мы рассматривали, особенно так называемых каппадокийцев: Василия, Григория Назианзина и Григория Нисского.
Таким образом, развитие учения о Святом Духе заново поставило многие вопросы, которые считались решенными в Никее, и подвигло к их решению. Ибо Никея и ее интерпретаторы не только избавились от проблемы Святого Духа с помощью формулы, говорившей все и ничего. В силу того что термин единосущный оставил без ответа вопрос об Одном и в символе не был систематически применен к Трем, признание божественности Святого Духа сделало необходимым развитие и углубление Никейского исповедания. Отсутствие формулы для Одного, а также тональность, в которой проводилась защита Никеи, особенно толкование пассажей о тождестве и употребление расхожих метафор, сделали никейскую позицию уязвимой для обвинений в размывании различий между Отцом, Сыном и Святым Духом в савеллианском духе. Требовалось иметь для Одного один термин, а для Трех — другой. Для Трех был готовый термин ипостась, который использовался в этом ключе еще начиная с Оригена. Очевидный термин для Одного, освященный не только долгим использованием, но и ассоциацией с христианским истолкованием Исх 3:14, - усия. Именно с помощью этих терминов и было сформулировано соотношение Одного и Трех: одна усия, три ипостаси.
Трудность в данном случае заключалась в том, что термины усия и ипостась представлялись эквивалентными, если не абсолютно тождественными; фактически в таком другой технический термин ~ «способ происхождений [τρόπος της υπάρξεως]». Сначала, по-видимому, его применяли по отношению к Сыну и Духу, к первому как рожденному и ко второму — как исходящему от Отца; затем его стали применять также и по отношению к Отцу, но негативно, а именно в том смысле, что Он не рожден и не исходит. Богословы отличались друг от друга тем, как они обозначали происхождение каждой ипостаси, а также по степени акцента на индивидуальности каждой из них; но индивидуальность, как бы ее ни определяли, была теперь отнесена к Отцу, Сыну и Святому Духу.
Благодаря этой концепции трех ипостасей с никенского исповедания удалось снять налет савеллианства: в то же время она вызвала к жизни другой призрак, не менее страшный для христианской веры: угрозу тритеиэма. Григорий Нисский так описал естественную реакцию многих, услышавших, что христианская вера в Бога требует исповедания трех ипостасей: «Петра, Иакова и Иоанна называют тремя человеками, несмотря на то что у них одно человечество. И ничего нелепого нет в употреблении этого слова во множественном числе, если таким образом единых по природе много. Если, тогда, общее словоупотребление разрешает это и никто не запрещает нам говорить о двух как о двух или о более чем двух как о трех, как же получается, что мы каким-то образом подвергаем риску наше исповедание, говоря, с одной стороны, что Отец, Сын и Святой Дух имеют одно Божество, и отрицая, с другой, что мы говорим о трех богах? Ибо, говоря о тайнах [веры], мы утверждаем три ипостаси и признаем, что между ними нет различия по природе». Каждая из ипостасей «едина» в полном смысле этого слова; поэтому исповедание «единого Бога» не ставится под угрозу исповеданием трех ипостасей. Других каппадокийцев тоже беспокоил этот вопрос, и Василий, возможно» был автором приписываемого ему трактата «Против ложно обвиняющих нас в том, что мы говорим, что Богов три». Исповедание единобожия во Втор 6:4, которое христианство унаследовало от иудаизма, было вновь, как когда-то, поставлено под угрозу, но в другом смысле — в споре о том, можно ли Христа, которому поклоняются христиане, тем не менее назвать тварным существом.
Похожие книги на "Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1", Пеликан Ярослав
Пеликан Ярослав читать все книги автора по порядку
Пеликан Ярослав - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.