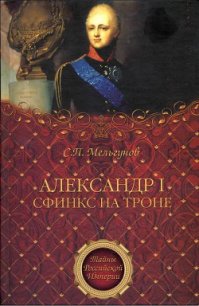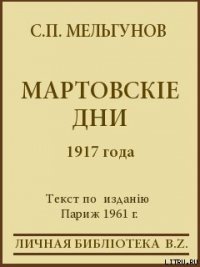Судьба императора Николая II после отречения - Мельгунов Сергей Петрович
Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 140
Кандидатом у этих безответственных политиков, может быть, занявшихся своими полезными изысканиями под влиянием русской информации, являлся вел. герцог Мекленбург-Шверинский, как принц славянского происхождения (он был сыном вел.-кн. Анастасии Мих.). Можно отметить у некоторых политических прожектеров еще кандидатуру Константина Греческого, как православного, внука Александра I, и к тому же мужа сестры германского императора. «Нелепые» слухи отмечает и дневник ген. Будберга. Показательно, что во всех подобных комбинациях имя Николая II нигде не фигурирует; постепенно на задний план отходит и кандидатура законного наследника. Говорят даже о новой династии. Сознание это упрочивается настолько в кругах даже конституционных монархистов в России, что подобную комбинацию готовы принять и легитимисты. Ген. Казанович, посланный в Москву с Юга командованием Добровольческой армии (это было в конце мая), установил связь с влиятельными общественными кругами», которые образовали к тому времени так называемый «правый центр», имевший в виду восстановление монархии. «Правый центр» делал ставку на Германию. Вот как передает свои впечатления Казанович: о «личности своего кандидата деятеля правого центра умалчивали, а по некоторым намекам можно было предположить, что они не прочь видеть на русском престоле кого-либо из германских принцев».
Вот почва, на которой возникла легенда, докатившаяся и до Тобольска и там получившая свое особое преломление. В сущности легенда не касалась низложенного монарха, а говорила лишь о тайном пункте мирного договора, по которому в России восстанавливается автократический режим. В таком контексте легенда прочно держалась в военной среде, – так передает, напр., ее в воспоминаниях ген. Гоппер, командир одной из частей латвийских стрелков, который принимал близкое и непосредственное участие в антибольшевистских военных организациях Москвы. В дни, предшествовавшие подписанию мира, когда немцами было нарушено установленное в предварительных переговорах перемирие и началось наступление, легенда получила некоторое фактическое обоснование. Могло казаться, что оккупанты действительно склонны изменить свою политическую тактику и отойти от большевиков. Недаром главнокомандующий немецкой армией на востоке, принц Леопольд Баварский, начал свое февральское наступление с заявления по радио об опасности большевистской заразы и о долге Германии бороться с тем моральным разложением, которое несут с собой московские властители. Упорные слухи носились, что Германия заключит мир лишь с правительством, признанным всей страной, – отсюда «уродливая радость», отмечаемая современниками: «то-то зададут немцы большевикам, немцы принесут с собой порядок, и с большевизмом будет покончено» [326].
Передавали сведения из Совета Нар. Ком. о вероятной оккупации Москвы и Петербурга. Находились разочарованные русские, уставшие от большевистских экспериментов, которые были готовы примириться с иноземной оккупацией, но попытки изображать эти чувства всеобщими, хотя бы в «буржуазных» кругах, надо, конечно, отнести к области общественной карикатуры. Возможно, что эти слухи распространяли сами немцы, с одной стороны, чтобы воздействовать на колебавшихся большевиков, а с другой, чтобы не потерять на всякий случай «контакта» с людьми, склонявшимися к «германской ориентации» в международных и внутренних политических отношениях.
Для того чтобы конкретизировать психологическую и политическую обстановку тех дней, необходимо было бы вступить на скользкую тропу, ведущую в область легенд и фактов, которые исторически исследуемы быть еще не могут за отсутствием хоть сколько-нибудь проверенного материала. Представляется несомненным, что какие-то закулисные разговоры после отъезда официальной немецкой дипломатической миссии (Кайзерлинг и Мирбах) велись в обеих столицах между двумя возможными в будущем партнерами – разговоры случайные и безответственные о совместном выступлении против большевиков. Эти разговоры русских «монархистов» и представителей «секретной» немецкой миссии (быть может, правильнее сказать – военной контрразведки) в Москве зарегистрированы в дневнике моего современника достаточно отчетливо. Отмечен там и слух о поездке петербургских «монархистов» в Псков, т.е. в штаб северогерманского фронта. Такая инициатива действительно была проявлена связанной с военными кругами Петербурга антибольшевистской организацией, одним из главарей которой был известный нам по истории проекта великокняжеского манифеста и марта 17 г. прис. пов. Иванов, человек близкий к вел. князю Павлу Ал. О появлении парламентеров упомянул и сам начальник фронта ген. Гофман, отнесший, правда, все это к более поздней дате. Упоминает о нем и немецкий участник переговоров в Ревеле с представителями петербургской монархической группировки, ведавший контрразведкой германской главной квартиры, – майор Бауэрмейстер. Он говорит, что уполномоченный петербургской организации, некто полк. ген. штаба Д. (ген. Гофман раскрывает фамилию – Дурново) прибыл с собственноручным письмом в. кн. Павла, который, в случае свержения большевистской власти при помощи Германии, должен был сделаться «блюстителем престола».
Каков был план, рассказывает со слов непосредственного участника этого начинания ротмистра фон Розенберга небезызвестный своей печальной деятельностью в годы гражданской войны в Прибалтике Бермондт (кн. Авалов). Мысль о переговорах с немцами возникла в организации, объединявшей офицеров бывших гвардейских частей под руководством генералов Гельгоера и Арсеньева. В дни брестских переговоров организация эта получила согласие со стороны большевистской власти на формирование сводного корпуса, который должен был получить наименование «Народной армии». Тогда возникла мысль вступить в тайные переговоры с немцами о совместном действии для занятия Петербурга и восстановления монархической власти, опорой которой являлся бы «русский корпус». Русские заключили бы сепаратный мир с Германией на условии status quo ante bellum и установили бы с ней «дружественный нейтралитет» до окончания мировой войны. Решено было «испросить разрешение» и «получить благословение» на осуществление намеченного плана от в. кн. Павла Ал. – к нему была отправлена «депутация». Вел. князь будто бы действительно дал не только свое «благословение», но и «согласие» стать при первой возможности и необходимости во главе корпуса и временного правления [327]. Приезд большевиков в Псков с решением заключить мир расстроил гвардейский «заговор».
Есть еще страничка воспоминаний с русской стороны, которая касается этих первоначальных переговоров представителей некоторых русских общественных групп с немцами до подписания брест-литовского мира. Страничку эту мы приведем, потому что она единственная. Но написана она, в сущности, не политиком, человеком, принявшим очень отдаленное, косвенное участие в русско-немецкой эпопее и едва ли разбиравшимся в информации, которую ему приходилось выслушивать на «конспиративных» заседаниях в феврале и марте. Отклики, о которых мы говорим, принадлежат члену Совета московских общественных деятелей, юристу и видному члену Церковного собора С. П. Рудневу. Он пишет: «Из памятных мне заседаний того времени я припоминаю одно, когда ставили вопрос, с кем нам быть… Где-то около Пскова шли переговоры с представителями Вильгельма, предлагавшими (такова, если мне не изменяет память, была информация) ввод… двухсоттысячного корпуса, совершенно, по мнению германского командования, достаточного для водворения и подержания порядка. От нас немцами требовалось, чтобы власть была взята общественностью в лице выдвинутых ею популярных, обладавших твердой волею, лиц и чтобы немедленно был заключен мир. После долгих и жарких споров только 6 или 8 человек из нас подали голос за принятие предложения – все же остальные, а было человек тридцать, если не больше, – голосовали против. Через несколько заседаний, после кулуарных разговоров, сторонников соглашения с немцами прибавилось, и решили было даже опять зондировать почву за Псковом [328], но прием оказался суровым и будто бы даже сказали, что вот приедет посланник в Москву, с ним и говорите…» Бывшее спутано здесь с неосуществившимся проектом, разговорами и мыслями. Суть в том, что «прием оказался суровым».
326
См., напр., запись Бунина 9 февраля в дневнике «Окаянные дни» о настроениях в земской среде: «немцы, слава Богу, продвигаются».
327
Роль самого в. кн. Павла Ал. в этих попытках связаться с немцами пока не поддается учету. Эту роль отмечает вскользь, между прочим, М. Маргулиес в своем дневнике.
328
Немецкий штаб находился в Ковно.
Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 140
Похожие книги на "Судьба императора Николая II после отречения", Мельгунов Сергей Петрович
Мельгунов Сергей Петрович читать все книги автора по порядку
Мельгунов Сергей Петрович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.