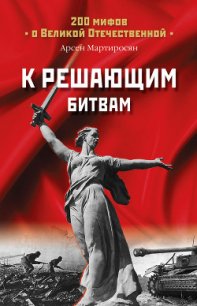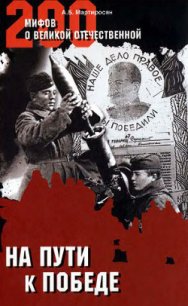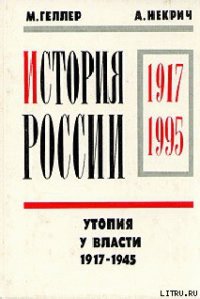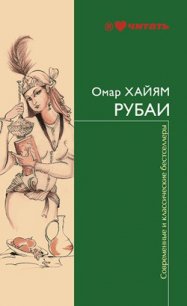Трагедия 22 июня: блицкриг или измена? - Мартиросян Арсен Беникович
346
Если, например, слегка забежать вперед, то с изумлением придется узнать, что в разработанном Тухачевским и К° «Плане поражения» СССР в войне с Германией одна из основных ролей отводилась использованию заведомо негодных по качеству стрелковых дивизий, выставляемых в не соответствующем обстановке количестве, т. е. Мерецков в своем выступлении, по сути дела, повторял идеи Тухачевского из плана поражения. Как свидетельствует со страниц своей книги «Разные дни тайной воины и дипломатии. 1941 год» ныне покойный П. А. Судоплатов, перед войной военная контрразведка органов госбезопасности СССР действительно весьма активно занималась перепроверкой всех накопившихся материалов о военном заговоре 1937—38 гг., в связи с чем часто запрашивала информацию даже у разведки. Делю в том, что по воспоминаниям ссылавшегося на мнение своего друга и начальника военной контрразведки того времени А. Михеева (погиб в самом начале войны) Судоплатова, уж очень удручающей была картина компромата в отношении большой части командного состава РККА. Явно именно так и «выплыли» неприглядные данные, в частности, на К. А. Мерецкова. Не менее очевидно, что эта перепроверка осуществлялась по прямому указанию Сталина. Однако явно не следует спешить с преждевременным выводом, что-де вместо подготовки к войне и отпору агрессии готовилась очередная расправа над военными. К вящему, а возможно, и злобному неудовольствию свихнувшихся на антисталинизме, необходимо прямо, без обиняков указать, что подобные меры в преддверии неминуемой войны — один из важнейших, пожалуй, даже и один из ключевых элементов подготовки к отражению агрессии. Являющаяся одним из решающе ключевых компонентов оборонной мощи государства, политическая и боевая стойкость командного состава Вооруженных сил не может, не имеет права, тем более накануне войны, вызвать у руководства государства даже мизерную толику сомнений. Это не столько «во-первых», сколько прежде всего. В т. ч. и потому, что подобные решения принимались на высшем уровне, т. е. на уровне Политбюро ЦК ВКП(б) и происходило это далеко не единожды. Достаточно сказать, что уже в 1926 г. было разработано «Положение о подготовительном к войне периоде», а 15 марта 1930 г., и 15 мая 1935 г. были приняты особо секретные постановления Политбюро о борьбе с «врагами народа» (включая и их ликвидацию) именно в связи с неизбежностью войны. Кстати, подобные же меры принимались еще в царской России. Однако то, о чем речь пойдет «во-вторых», в данном случае еще более важно. С конца 1938 г., т. е. с момента назначения главой НКВД СССР Л. П. Берии, по инициативе Сталина и нового наркома внутренних дел был инициирован широкомасштабный процесс реабилитации и освобождения незаконно репрессированных в период «ежовщины». Естественно, что этот процесс затронул и военных, в результате чего к началу войны в кадры РККА было возвращено около 13 тыс. человек командного состава, о чем не в меру «объективные историки» умышленно предпочитают помалкивать. Но более всего оно понятно почему. Ибо не рассказывать же ведь о том, как в 1939 — 1940 гг. Генеральный прокурор СССР М. Панкратьев дважды строчил доносы на Л. П. Берию, обвиняя его в умышленном прекращении дел на «врагов народа»! А ведь это история более чем занятная, ибо дважды высокая партийно-государственная комиссия проверяла и деятельность самого Берии и возглавляемого им НКВД по реабилитации незаконно репрессированных и дважды же подтвердила полную законность и обоснованность этой реабилитации. М. Панкратьев, естественно, вылетел со своего поста. Т. е. курс государства на соблюдение законности очевиден, как, впрочем, и то, что одну из ведущих ролей в этом процессе играл НКВД СССР.
В то же время было бы весьма глупо отрицать факт отдельных репрессий в отношении некоторых представителей командного состава РККА, в частности, в первом полугодии 1941 г. Они затронули тогда два десятка человек, преимущественно из комсостава ВВС РККА. Называя все своими именами, не следует меж тем забывать, что фактическими инициаторами этих репрессий являлись Тимошенко и Жуков, особенно в отношении комсостава ВВС, о чем говорилось еще в первой главе. Более того, не следует забывать и о том, что с 3 февраля 1941 г. военная контрразведка напрямую подчинялась наркому обороны и начальнику ГШ, т. е. все тем же Тимошенко и Жукову, т. к. с указанного времени она являлась 3-м Управлением Наркомата обороны. И часть комсостава ВВС, и Мерецков были арестованы с их ведома и санкции — такой тогда был порядок.
347
Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С 397.
348
Анфилов В. А. Провал «Блицкрига» С. 125.