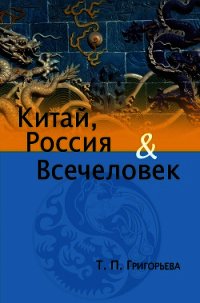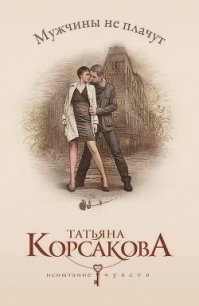Японская художественная традиция - Григорьева Татьяна Петровна
Накано Ёсио пишет: «Говорят, что одна из важных особенностей садового искусства японского типа заключается в том, что наблюдатель, где бы он ни стоял, никогда одним взглядом не осмотрит всего — всегда в какой-то одной части остается скрытая прелесть». То же самое, продолжает он, можно сказать и о дзуйхицу, интерес которых «заключается в изменении тем, скачках ассоциаций, юморе, рождающемся между строк, в глубине вкуса» (цит. по [ 33, с.90]).
Почему мы любим смотреть на небо, на движение облаков? Потому, что мы чувствуем движение, когда видим его. Японцы чувствуют движение, созерцая неподвижные камни. Секрет знаменитого «сада камней» Рёандзи в том и состоит, что, сосредоточившись на неподвижном, ощущаешь движение, космический ритм. Здесь нет намерения, но найдена гармония — не та, которую конструирует человеческий разум, а та, что заключена в самой природе. Камни спокойно лежат поодаль друг от друга, своим бесстрастием снимают напряжение, возвращают утраченное равновесие. С нашей точки зрения, здесь нет порядка, с точки зрения японцев, есть порядок, предусмотренный самой природой, который интуитивно уловил художник XV — начала XVI в. Соами — неупорядоченный порядок. Если почувствовать намерение, все пропадет. Но разве в самой природе есть намерение, разве ее гармония не самоестественна?
Даны соединены между собой не замыслом автора, а его интуицией. Они как бы и вовсе не соединены, не мешают друг другу, или соединены на уровне традиционной структуры: каждый дан — сам по себе, живет своей жизнью, что не мешает ему жить жизнью других. Целостность достигается не обусловленностью последующего предыдущим, когда согласно логике характера или логике действия одно вытекает из другого, а свободным типом связи. Нет сюжетного единства, но есть единство настроения, окраски, есть связь по типу эха, резонанса, «единства духа» (кокородзукэ). Итак, не бесструктурность, а незнакомый или малознакомый европейскому искусству тип структуры [6].
В моногатари стихи и проза, картины и текст как бы существуют сами по себе, вместе с тем они нерасторжимы, лишь в сочетании друг с другом образуют целое.
По замечанию Макото Уэда, во времена Хэйана воспринимали мир в виде развернутого свитка: «Когда писатель изображал чью-нибудь жизнь, он прибегал к методу живописи на свитках — не только потому, что повести с картинками были очень популярны в те временя а потому, что таким был метод мышления. „Гэндзи” не составляет исключения. По своей структуре это собрание многочисленных эпизодов с красочными описаниями, яркими образами, мгновенными зарисовками. В нем отсутствует сюжет в современном понимании» [ 219, с.29].
Подобный тип структуры мы обнаруживаем и в таком виде поэзии, как рэнга («стихотворная цепь»), который пользовался большой популярностью в Японии XV в. Если раньше было принято обмениваться танками, то теперь поэты собирались вместе и составляли «стихотворные цепи». Число строк зависело от настроения собравшихся. Один из поэтов произносил начальное трехстишие — хокку (17 слогов), другой добавлял к нему двустишие — агэку (14 слогов). Вместе они составляли целое — танку (31 слог). Следующий поэт к двустишию прибавлял новое трехстишие. Если их мысленно переставить (трехстишие — наверх, двустишие — вниз), получится новая танка. Одно с другим соединялось тематически. Для большей ясности приведу пример из «Очерка японской поэтики» Н.И. Конрада:
«1. Первый актер начинает:
В этом хокку даны образы весны и тающего снега. По японскому тематическому канону в ближайшей связи с ними стоят другие весенние образы: „весенний дымок” и „побеги травы”. Эти образы могут содержаться в последующей части, и тематическое единство всего целого таким путем будет соблюдено.
2. В соответствии с этим второй автор добавляет такое агэку:
Таким образом получается первая танка всей цепи» [ 82, с.48].
Рэнга наглядно иллюстрирует тип «встречной связи»: последующее возвращается к предыдущему, и не только возвращается, но находит на предыдущее, притом каждая пара, составляющая танку, существует самостоятельно. Вся цепь состоит из сотни или нескольких сотен таких пар. И не только каждая пара существует самостостоятельно, но и каждое трехстишие и двустишие принадлежит разным поэтам, и объединяет их общее настроение собравшихся. Вместе с тем каждое двустишие и трехстишие зависит от внутреннего закона всей цепи.
Теоретик рэнга Нидзё Есимото придавал огромное значение тому, чтобы поэты рэнга соблюдали характер целого — заданного тона, художественной темы. Как и Фудзивара Тэйка, он считал, что главное — передать целостность разного». Поэт непосредственно зависит от общей системы, однако ее рамки настолько широки, что, как и в музыке, закономерно рождается метод импровизации. От индивидуального таланта и вкуса поэта зависит успех цепи в целом: не оборвутся ли звенья, соединятся ли в надлежащем порядке последующие строки с предыдущими. В рамках заданной формы поэт может проявить максимум вкуса и изобретательности. Вновь, с одной стороны, стремление к интеграции общего, с другой — достижение цели сугубо индивидуальным путем, «ни до, ни после других». С одной стороны, поэт ограничивает себя, ибо не может не считаться с общим замыслом, с общим тоном рэнга, с другой — исключительно от его таланта и находчивости зависит успех цепи в целом. Он может скрепить ее, а может оборвать неудачным словом. Успех общего зависит от уникальности каждого. Так реализуется главный принцип рэнга — «целостность разного». Интуиция поэта дает новый поворот теме. Нидзё Ёсимото перечисляет приемы, при помощи которых трехстишия соединяются с двустишиями: игра слов, намек, единство смысла, единство настроения или, напротив, контраст. Положим, если речь идет о весне, можно присоединить тему осени. Существуют и другие способы — шуточный диалог или необычная ассоциация. Практически свобода выбора не ограничена или ограничена общим настроем рэнга. «Успех рэнга зависит от индивидуального стиля и таланта, — говорит Ёсимото. — не может быть точных правил...
Стих, найденный опытным мастером, составит целое с предыдущим благодаря интересному повороту мысли, хотя поначалу может показаться, будто между ними нет никакой связи. Талантливый поэт добивается целостности единством духа, а не словесными ухищрениями. Стихи неопытного мастера, даже технически совершенные не соединятся с предыдущими, не составят с ними целого.
Вот что я имею в виду, когда говорю: „Правила нужно уметь обходить; как правила рэнга, так и правила этого бренного мира”» (цит. по [ 219, с.49]). Правило, как и слово, — преграда на пути, правило, как и слово, должно быть гибким, подвижным, чтобы не препятствовать дао. По мнению Макото Уэда, «социальный смысл этой поэзии — в правдивом отражении человеческой жизни. Она выявляет плохое и хорошее в обществе, служит зеркалом жизни. Упадок поэзии — свидетельство упадка общества. Если рэнга содержала дух правды и непосредственности, значит, государство управлялось должным образом... В противоположность некоторым западным поэтам конца XIX в. Ёсимото никогда не избегал моральной ответственности слов. Напротив, он верил, что поэзия помогает увидеть вечную правду новыми глазами» [ 219, с.52-53]. Необычная, с нашей точки зрения, форма не мешала японской поэзии служить своему назначению не хуже, чем это делала европейская.
Похожие книги на "Японская художественная традиция", Григорьева Татьяна Петровна
Григорьева Татьяна Петровна читать все книги автора по порядку
Григорьева Татьяна Петровна - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.