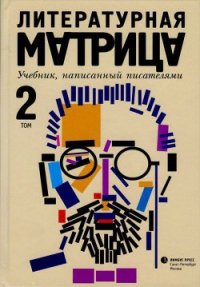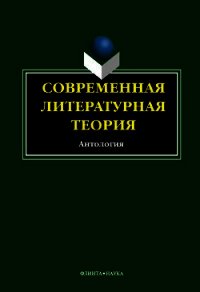Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1 - Бояшов Илья Владимирович
Недаром приглянулся Некрасову и жанр стихотворного некролога — кого только не проводил он своим рыдающим стихом в последний путь: Белинского, Добролюбова, Шевченко, Писарева («Памяти приятеля», «Памяти Добролюбова», «На смерть Шевченко», «Не рыдай так безумно над ним…», поэма «Белинский»). Но все эти безумные рыдания над могилами выводят нас и к другой теме. Почему поэт так об этих людях скорбел? Отчего ему так важно было сказать о них не просто доброе, но и бесконечно идеализирующее их жизнь слово? Дело тут, очевидно, не в одном пристрастии к теме смерти, но еще и в разрывающем чувстве вины перед ними.
Они-то, в отличие от него, и правда жили в нужде, и почти все (за исключением разве что Шевченко) умерли молодыми. А он продолжал жить широко, настоящим русским барином, летом отправлялся в имение, то в одно, то в другое, охотился, гулял, вел переписку, ездил к соседям в гости — зимой плотнее занимался делами журналов, одного, потом второго, обеспечивавших ему совершеннейшее благополучие. Посещал Английский клуб, проигрывал (но и выигрывал) там громадные суммы, мало отличаясь от самых высокопоставленных его членов, которые часто и не подозревали, что сражаются в вист с известным поэтом.
«Балет, рысаки, шампанское, первоклассный портной, даже содержанка-француженка — все делало его вполне своим в этом обществе крупнейших помещиков, чиновников, инженеров, дипломатов, генералов», — пишет Корней Чуковский, один из самых внимательных исследователей творчества Некрасова. Чуковский приводит множество фактов, доказывающих, что в стихах Некрасов писал одно — в жизни делал совсем другое. Скажем, в гневной сатире обличал клуб гастрономов, обжирающихся, когда другие голодают, — а в реальности сам тайно к этому обществу принадлежал.
Чуковский был убежден, что Некрасов сохранял искренность и в том, и в другом. И в обжорстве, и в его обличении, что для него «столь же подлинным и органическим было плебейство», как и барство, и все это свидетельствовало не о «двуличности» поэта, а о его «двуликости». Потому что жизнь Некрасова, справедливо отмечает Чуковский, выстроилась так, что он принадлежал сразу двум слоям общества — разночинному и дворянскому. Так оно и было, конечно, но сам Некрасов остро ощущал именно свою раздвоенность (никакую не двуликость!) — об этом уже разобранное нами «Я за то глубоко презираю себя…», об этом «Рыцарь на час», «Зачем меня на части рвете…», «Скоро стану добычею тленья…» и т. п. И все же это противоречие — живу не так, как пишу, — ему удавалось преодолеть. Внутреннее примирение с самим собой достигалось при помощи простого признания — «я лиру посвятил народу своему». То есть — как бы я сам ни жил, в поэзии я призывал к добру, к состраданию русскому крестьянину.
(«Элегия»)
Это, впрочем, никак не разрешало другого, не менее болезненного противоречия.
Русский мужик, участь которого столько раз была оплакана, ведать не ведал, о ком там мечтают в редакциях столичных журналов их баре, — одних и других по-прежнему разделяла бездна. Но все же обойтись без народа Некрасов не мог, его «эгоистическая» поэзия нуждалась хоть в каком-то оправдании. И оправданием этим стал народ. «Народ был главным мифом его лирики, величайшею его галлюцинацией (…) Нужно же было ему найти какой-нибудь объект для лирических молитв и плачей. История подсказала ему, что этим объектом может быть только народ», — резюмировал Корней Чуковский.
Подробнее и настойчивее всего Некрасов лепил этот миф в своей эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо» — в целом очень сильной, очень талантливой, очень музыкальной, но недаром незаконченной. Некрасов бился над поэмой более десяти лет — и все же не смог ее достроить, додумать. Русский мужик оказался русскому барину не по зубам, русский мужик долго топтался в передней у главного редактора главного журнала эпохи, пока не ворвался в кабинет и не задавил его хозяина своею массою.
Кого только не созвал Некрасов в свою поэму! Обилие персонажей в «Кому на Руси…» поражает — семь мужичков постепенно притягивают к себе и своему вопросу («кому живется весело, вольготно на Руси?») все больше и больше народу: за спинами отчетливых, стоящих на первом плане попа, помещика Оболта-Оболдуева, крестьянки Матрены Тимофеевны, дедушки Савелия, старосты Власа, народного любимца Ермилы Гирина, семинариста Гриши Добросклонова вырастают всё новые персонажи. Поэма взбухает, точно квашня: семинарист Саввушка, дворовый человек Викентий Александрович, смиренный богомол Ионушка, занимавшийся извозом Игнатий Прохоров, носитель вериг Фомушка, посадская вдова Ефросиньюшка, Егорка Шутов, которого мир постановил бить (а за что — неизвестно), — кого тут только нет. Холопы, господа, странники, богомольцы, пьяницы, каменотесы, солдаты, старики, парни, молодки, дети, поименованные и безымянные — голова идет кругом. Но ведь это «эпопея современной крестьянской жизни», как выражался сам Некрасов. Автору эпопеи жадничать не к лицу, в эпопее всего и всех должно быть вдосталь.
С точки зрения поэтического мастерства Некрасову здесь действительно многое удалось. В поэме есть несколько совершенно замечательных по выразительности массовых сцен — задолго до изобретения кинематографа Некрасов сумел выдумать вот такую, например, совершенно кинематографичную сцену, охватив взглядом и объединив в целое громадную толпу на базаре.
Он замечательно зорко и быстро двигает свою камеру и в главе «Пир на весь мир», описывая, как крестьянская семья слушает басни захожих странников.
Завершается сцена описанием хулиганства кота Васьки, который втихую размотал веретено с непряденой нитью. Это кошачье безобразие отлично рифмуется с окончанием рассказа, нить которого тоже оказывается размотана.
Похожие книги на "Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1", Бояшов Илья Владимирович
Бояшов Илья Владимирович читать все книги автора по порядку
Бояшов Илья Владимирович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.