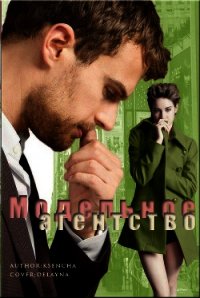Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 200
Бунинскую книгу позднее назвали первым русским феноменологическим романом. «Жизнь Арсеньева» – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое «восприятие восприятия»). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно, в одном едином контексте… Прошлое заново переживается в момент писания, и потому в «романе» Бунина мы находим не мертвое «повествовательное время» традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей его неотразимой непосредственности» (Ю. Мальцев).
В этом – структурном – смысле «Вечер у Клэр», пожалуй, даже более феноменологичен, чем «Жизнь Арсеньева». Биографическое время традиционных романов оказывается здесь глубоко периферийным, отступает перед повествовательным здесь-и-сейчас.
Разгадка книги – в фигуре главного героя. Он – не социальный тип или характер, а тип психологический. Газдановские детство – отрочество – юность становятся исследованием не внешней, окружающей героя реальности, а феноменологии его сознания, его точки зрения, взгляда на мир. Другие персонажи «Вечера у Клэр» даны лишь в процессе их осознания центральным персонажем. Они – шахматные фигурки на доске непонятной и непонятой реальности.
Доминанта газдановского персонажа – в преобладании внутреннего над внешним. «Я был слишком равнодушен к внешним событиям; мое глухое, внутреннее существование оставалось для меня исполненным несравненно большей значительности».
Поэтому для него книги становятся большими событиями, чем реальные потрясения, и он никак не может ощутить подлинность своего существования.
Первым рубежом его жизни становится родная смерть.
«Та минута, когда я, неловко вися на руках дяди, заглянул в гроб и увидел черную бороду, усы и закрытые глаза отца, была самой страшной минутой моей жизни. Гудели высокие церковные своды, шуршали платья теток, и вдруг я увидал нечеловеческое, окаменевшее лицо моей матери. В ту же секунду я вдруг понял все: ледяное чувство смерти охватило меня, и я ощутил болезненное исступление, сразу увидев где-то в бесконечной дали мою собственную кончину – такую же судьбу, как судьба моего отца».
Так же когда-то ужасался смерти матери толстовский Николенька Иртеньев, страшным криком встречая свое отрочество. Но это потрясение утешалось, поглощалось обычной домашней жизнью: отец, брат, тетушки, гувернеры и учителя. Газдановского героя быстро выбрасывает на беспощадные холодные сквозняки истории.
Его отрочеством становится кадетский корпус. Но и здесь, в самые прозрачные годы жизни, он несет с собой призрак того пронзительного чувства, которое он испытал, склонившись над гробом отца. «И в глубине моего сознания ни на минуту не прекращалась глухая, безмолвная борьба, в которой я сам почти не играл никакой роли. Я часто терял себя: я не был чем-то раз навсегда определенным; я изменялся, становясь то больше, то меньше; и, может быть, такая неверность своего собственного призрака, не позволявшая мне разделиться однажды и навек и стать двумя различными существами, – позволяла мне в реальной моей жизни быть более разнообразным, нежели это казалось возможным. Эти первые, прозрачные годы моей гимназической жизни отягчались лишь изредка душевными кризисами, от которых я так страдал и в которых все же находил мучительное удовольствие. Я жил счастливо – если счастливо может жить человек, за плечами которого стелется в воздухе неотступная тень. Смерть никогда не была далека от меня, и пропасти, в которые повергало меня воображение, казались ее владениями».
Цепочка смертей на внешней поверхности жизни – старшей сестры, отца, другой сестры – трансформируется в глубине сознания в странный апокалипсический пейзаж. «И мне представилось огромное пространство земли, ровное, как пустыня, и видимое до конца. Далекий край этого пространства внезапно отделяется глубокой трещиной и бесшумно падает в пропасть, увлекая за собой все, что на нем находилось. Наступает тишина. Потом беззвучно откалывается второй слой, за ним третий; и вот мне уже остается лишь несколько шагов до края; и, наконец, мои ноги уходят в пылающий песок; в медленном песчаном облаке я тяжело лечу туда, вниз, куда уже упали все остальные. Так близко, над головой, горит желтый свет, и солнце, как громадный фонарь, освещает черную воду неподвижного озера и оранжевую мертвую землю».
«Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли…» (Цветаева).
Одинокий мечтатель, романтик, видящий и чувствующий внутренний мир лучше живой жизни, – характер распространенный. Столкновение трепетной, поэтической души с ужасом небытия – ситуация универсальная. Однако здесь многое решает поправка на историю: странным остраненным взглядом увидена небывалая, уникальная в человеческой истории эпоха «оптовых смертей».
«Написанный от первого лица, роман-воспоминание в свободной повествовательной манере дает живой портрет молодого поколения эпохи гражданской войны. Сегодня, пожалуй, можно сказать, что в русской зарубежной литературе это одно из лучших произведений о гражданской войне» (Ст. Никоненко).
Портрет молодого поколения, кажется, нужно искать где-то в другом месте. Газдановский герой, как уже замечено, – не «типический представитель». И гражданская война в романе какая-то странная – совсем не похожая не только на войну из учебников, но и на ее бабелевский, толстовский («третьего Толстого», автора «Хождения по мукам»), шолоховский или фадеевский образ.
«Уходили добровольцы На гражданскую войну…»
Здесь на войну уходит не убежденный идейный борец, а мальчишка-идеалист, импульсивно встающий на сторону неправых, но побеждаемых.
Главные слова о русской истории и современности Газданов предоставляет произнести дяде Виталию, старому пессимисту с даром угадывания, скептику и романтику, рыцарю чести (давшему пощечину командиру полка за его отказ драться на дуэли и пять лет просидевшему в крепости), философу и эрудиту, безвестно закупоренному в провинциальном Кисловодске.
В представлении о русской истории как смене умных и добродетельных монархов дядя видит сусальную мифологию. «Впрочем, – продолжает он, – ты все равно окажешься в дураках, – даже если будешь знать настоящую историю».
Современное состояние России представляется ему в столь же безнадежных тонах. «Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича. – Конец Смутного времени, – пробормотал я. – Да, конец Смутного времени… Белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные – это те, что растут. – Хорошо, допустим, что это так, – сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение, – но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых? – Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть? – Хотя бы, – сказал я, хотя думал совсем другое. – Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы. – И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге. – Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных – если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии – если автор будет на стороне красных. – Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые. – Это гимназический сентиментализм, – терпеливо сказал Виталий».
Биологический и одновременно безнадежно агностический подход к истории дяди сталкивается с романтическими представлениями племянника. «Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию».
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 200
Похожие книги на "Русский канон. Книги XX века", Сухих Игорь Николаевич
Сухих Игорь Николаевич читать все книги автора по порядку
Сухих Игорь Николаевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.