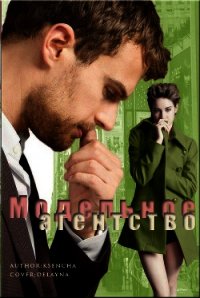Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 200
Во всяком случае, если «смерть неизбежна», встретить ее Федор собирается вполне язычески, как герой притчи «одного старинного французского умницы» (еще один набоковский вымышленный литератор и вставной микросюжет). «Был однажды человек… он жил истинным христианином; творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием; соблюдал посты; пил воду горных долин (это хорошо, – правда?); питал дух созерцанием и бдением; прожил чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почуял приближение смерти, тогда, вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки… Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так».
«Если мне когда-нибудь придется умирать…» Он словно в этом сомневается. В набоковской картине мира смерть не неизбежна. Во всяком случае, она не имеет прямого отношения к жизни, не проникает в нее. Бога здесь заменяет судьба, которая – лишь счастливая случайность ослепительно-прозрачного бытия.
Рассказав свой последний сюжет, герой расплачивается и выходит с любимой в душную берлинскую ночь. «И всё это мы когда-нибудь вспомним, – и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот, на углу – дом».
У него нет ключей от этого чужого дома, но есть ключи от счастья…
А. Пятигорский определяет мироощущение Набокова как «философию бокового зрения». «Нелегко отыскать в двадцатом веке другого русского писателя, которому столь глубоко чуждо чувство трагедии, как Набокову; трагическое – результат прямоты взгляда».
Любителей смотреть трагедии в лицо в трагическом XX веке, действительно, не перечесть. С другой стороны, трудно найти и у самого Набокова другую книгу, где трагическое преодолевалось бы так последовательно и бескомпромиссно, как в «Даре».
Набоков и сам дважды пытался продемонстрировать прямоту взгляда, разрушить хрупкий аквариум счастья, возведенный в романе.
Сначала – в новелле «Круг» (1936). Его герой – сын мельком упомянутого в «Даре» сельского учителя Бычкова. Лешинский летний рай вспоминается ему, когда-то влюбленному в сестру Федора, «омерзительным», отец Федора в его глазах оказывается «неприметным господином на низкорослом мышастом иноходце». Через много лет, случайно встретившись с Таней в Париже, он понимает, что эта семья так же недоступна для него, как когда-то в России.
Социальная ненависть раскалывает радужный образ удавшегося детства и семейного рая. Созданный в «Даре» мир-миф не допускает предвзятого, неосторожного взгляда со стороны. Потому Набоков оставил этот «маленький спутник» романа, рассказ об общей судьбе и персональном изгнании, вне основного текста.
В оставшихся в архиве писателя набросках продолжения Федор теряет внутреннюю цельность и летящую походку. Он встречается с парижской проституткой, потом Зина гибнет, попав под машину, у Федора появляется новая женщина, начинается война… «Доминантное настроение… всех фрагментов “тетради”: утрата направления, ощущение тщеты. Все наброски завершаются тупиком, патом. А в этой заключительной главе “чувство конца” возрастает от личной до политической трагедии, включает в себя апокалипсическую идею конца цивилизации» (Дж. Грейсон).
В общем, это уже другая история, вполне в духе «Настоящего Двадцатого Века»: сквозь щели зеркального дома сквозит тоской, безнадежностью, трагедией.
Все это – к счастью! – осталось в черновиках. «Дар» (сначала Набоков собирался назвать роман «Да») оказался книгой о радости жизни, благодарностью ей.
«Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет» (Пушкин – Нащокину, середина марта 1834 года).
«Прощай же, книга!..» Пути бедного, безвестного, безмерно счастливого поэта и – в будущем – благополучного профессора, утомленного славой писателя, расходятся здесь. Один, как бабочка в янтаре, навсегда остается в берлинском ночном июне 1929 года. Другой уходит дальше – в Париж, в Америку, в английский язык, в исследования, в примечания, в Россию…
«Дар» кончается легким дыханием записанной в строчку онегинской строфы. Пунктиром аллитераций. Открытым финалом. Мыслью о таинственной связи искусства и бытия: не кончается жизнь, пока длится строка.
Последним – но это во-первых – в опустевшем зеркале отразился пушкинский профиль.
Одиссея казачьего Гамлета. (1925—1940. «Тихий Дон» М. Шолохова)
Разговор о «Тихом Доне», кажется, мгновенно превращается в «шолоховский вопрос». Украл или не украл? Кто он, этот первый настоящий автор? Крюков? Серафимович? Неизвестный гений, который то ли погиб на Гражданской, то ли просидел в вешенском подвале до Великой Отечественной?
Не мог ведь, не мог малограмотный продотрядник, любимчик Сталина и других вождей, не диссидент, а ортодокс, призывавший разобраться с собратьями-писателями скорым революционным судом, не сочинивший больше ничего отдаленно приближающегося к этой книге, написать лучший русский роман XX века (по результатам опроса 1998 года треть читателей считает именно так: Булгаков и Пастернак далеко позади).
Вы нам – компьютерный анализ, а мы вам – фрагменты, заимствованные из воспоминаний белых генералов (как будто Л. Толстой не использовал мемуары о войне 1812 года).
Конечно, и «Гамлета» сочинил лорд Рэтленд, а не с трудом расписывавшийся сын перчаточника. А «Горе от ума» логичнее смотрелось бы в творчестве Пушкина (хорошо, что не Булгарина), ведь у Грибоедова не получилось больше ничего, сопоставимого с гениальной комедией.
Расследования, несомненно, продолжатся. Для них есть широкое поле: не существует не только достоверной биографии Шолохова (возможно, официальная дата рождения, 1905 год, неточна: писатель родился раньше), творческой истории книги, но даже более или менее приемлемого критического и комментированного издания. Но они не изменят главного.
«Илиада» существует, даже если Гомера не было. «Эпопея будет продолжаться, хоть Гомер немного и вздремнет».
«Разве “Грозу” Островский написал? “Грозу” Волга написала», – сказал один поклонник драматурга.
В таком случае эту книгу сочинил Дон-батюшка. А Шолохов – его псевдоним.
Прежде всего – это очень длинная книга. Четыре тома, восемь частей, больше семисот персонажей (по подсчетам С. Семанова), около полутора тысяч страниц. Самый длинный (среди самых известных) русский роман XX века. По объему и охвату событий – почти точная копия «Войны и мира».
Роман-река, роман-жизнь, по-ученому говоря – роман-эпопея. Жанровую схему Толстого увидели в «Тихом Доне» уже первые критики. «Замысел “Тихого Дона” – показать социальные сдвиги в среде крестьянства, в данном случае казачества и преимущественно середняков, в результате войны и революции. Но замысел этот не ограничивается рамками индивидуальных сдвигов, или шире – сдвигов в пределах одной семьи. Он расширяется до социального разреза целой эпохи и вкладывается в жанр романа-эпопеи». Социологические клише (потом многократно воспроизведенные) сталкиваются в статье А. Селивановского (1929) с точностью видения.
Создавая новый жанр, Лев Толстой определялся по очень далеким ориентирам: «Без ложной скромности – это как Илиада».
Однако «Гомер русской “Илиады”, творец “Войны и мира”» (А. Кони) внес в новый эпос щелочной психологический анализ и философскую рефлексию XIX века. Автор «Тихого Дона» в этом смысле делает шаг назад, в прошлое, от Гомера русского к Гомеру греческому.
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 200
Похожие книги на "Русский канон. Книги XX века", Сухих Игорь Николаевич
Сухих Игорь Николаевич читать все книги автора по порядку
Сухих Игорь Николаевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.