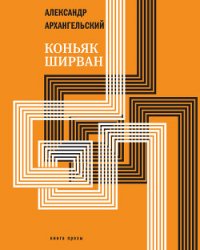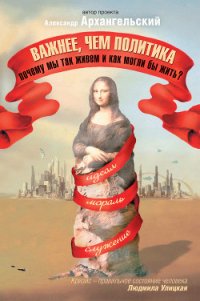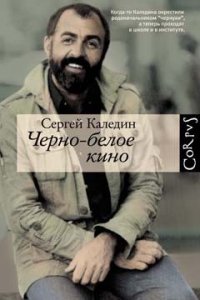Литературный навигатор. Персонажи русской классики - Архангельский Александр Николаевич
Никаких событий в жизни стариков не происходит. Поэтому событием становится еда. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна все время едят. На заре подается кофе, сразу вслед за тем – рыжики и пирожки, в полдень полноценный обед, после сна арбуз и груши, после прогулки, перед ужином – закуска, в полдесятого «собственно» ужин, ночью тарелочка грушевого взвару как лекарство от живота. Мало того, они все время говорят, все время думают о еде. Вокруг них все воруют еду и жрут, жрут – от ключницы до свиней. И тем не менее запасы не кончаются, еда не убывает. Благословенная земля словно чувствует мистическую связь старосветских помещиков со стихией еды – и не оскудевает. Но сразу после смерти старосветских помещиков не только само имение приходит в упадок, но и съестные припасы сами собою истощаются.
Но в том и дело, что читатель помнит: счастливые «старички прошедшего времени» уже умерли, уклониться от разлуки им не удалось. То демоническое зло смерти, от которого они прячутся и в реальное вторжение которого просто-напросто не верят (любимые шутки Афанасия Ивановича над Пульхерией Ивановной – а что, если б загорелось все? а что, если б Бонапарта снова выпустили на Россию и А. И. снова пошел бы в армию?), является им в «маленьком», подобно самой их жизни, образе. Оттого оно не менее – а может быть, и более – страшно.
Среди ясного солнечного дня, то есть в самый разгар природного блаженства, Пульхерия Ивановн встречает любимую серенькую кошечку, которую три дня назад сманили в лес дикие коты и которая, не давшись в руки хозяйке, тут же исчезает. Пульхерия Ивановна понимает: «это смерть моя приходила за мною». Мысль тем более странная, что сама же Пульхерия Ивановна до сих пор считала, что «кошка тихое творение, она никому не сделает зла». И в то же время мысль оправданная, потому что «тихое творение» старосветскому уюту предпочло лесной, дикий, страшный мир. Кошечку не способна удержать даже вкусная еда, на которой, как на самом настоящем таинстве, все держится в доме старосветских помещиков. Замкнутый на себя, не допускающий никаких перемен, уклад дает трещину. Он больше не защищен от потустороннего лесного царства непроходимым частоколом, и кошечка, спокойно преодолевшая границу между пространствами (на которую не покушались даже лесные коты!), действительно должна казаться П. И. гостьей с того света.
Гоголь времени создания «Старосветских помещиков» отнюдь не религиозный писатель и не строгий моралист. Но в повести об Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне он впервые всерьез обращает внимание на безрелигиозность своих героев. Пульхерия Ивановна просит похоронить ее возле церковной ограды, ее отпевают в церкви, но, готовясь к приближающейся смерти, она совершенно не думает о душе, о будущей жизни. Единственная ее мысль и забота о том, как будет устроен быт Афанасия Ивановича, когда ее не будет, что он станет есть и пить. Вечная жизнь важна для нее лишь постольку, поскольку может иметь отношение к житейскому благополучию «бедного спутника». Она даже грозит служанке Евдохе Божьим судом, если та не станет опекать Афанасия Ивановича, «как должно». Старосветская идиллия заняла в ее думах то место, какое в мыслях верующего занимает рай.
Но это ненадежное подобие земного рая обречено; а значит, обречен и «бытовой уклад» Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. После похорон Пульхерии Ивановны все ветшает, Афанасий Иванович резко стареет. Рассказчик, посетивший старосветское имение спустя 5 лет, видит перед собою дряхлого старика. Вдруг выясняется, что сила привычки может быть куда разрушительнее, чем бурная страсть. Не случайно рассказ об одиноком, безнадежно стареющем и безутешном Афанасии Ивановиче оттенен «притчей» о некоем знакомце автора, «во цвете сил» потерявшем возлюбленную, предпринявшем несколько попыток самоубийства и в конце концов успокоившемся подле молоденькой жены.
И как смерть в образе серенькой кошечки явилась к Пульхерии Ивановне в самый разгар блаженного летнего дня, так и к Афанасию Ивановичу она является летом, причем исходит из сердцевины фруктовою сада. Вдруг он слышит явственный зов – «Афанасий Иванович!» – и догадывается: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!» Фруктовый сад – традиционная литературная эмблема райских кущ; голос смерти, раздающийся из тенистой глубины земного «рая», где по определению должно царить бессмертие, настолько страшен, что кажется автору «ужаснее всех стихий ада».
Почти все персонажи «Миргорода» умирают, и гибнут, соприкасаясь со злом, которое может принимать любую форму, любое обличье. Спрятаться от зла не удается, – печальный опыт старосветских помещиков доказывает это.
Тарас Бульба (1835 – 1-я ред.; 1842 – 2-я ред.)
Андрий Бульбенок (Бульбенко) – младший сын главного героя повести. Вместе с братом Остапом возвращается в отцовский дом из киевской бурши, где учился с двенадцати до двадцати «с лишком» лет. Наутро Тарас везет сыновей в Сечь; там братьям предстоит влиться в ряды вольного запорожского казачества эпохи религиозных войн с Польшей и набегов на Турцию. (О том, насколько условны и прозрачны хронологические границы этой эпохи в изображении Гоголя, см. ст. «Тарас Бульба».)
Во время «крестового» казачьего похода на польский юго-запад, против унии, Андрий героически и самоотверженно воюет с врагами «веры православной». Но когда казаки осаждают город Дубно, служанка той польской красавицы, в которую Андрий влюблен еще со времен бурсы, ночью проводит его по подземному ходу в осажденный город. Встав на сторону «проклятых католиков», Андрий бросается в бой против соотечественников и единоверцев. Заманив сына-изменника в засаду, Тарас Бульба собственноручно убивает его. Эта сцена связывает Андрия с героем новеллы П. Мериме «Маттео Фальконе», а также напоминает некоторые жестокие эпизоды романов Фенимора Купера из жизни индейцев. Что многое объясняет и в художественном построении повести, и в ее «моральном облике». Европейские, американские и русские постромантики пытались изображать суровые нравы таких колоритных обществ, как корсиканская семья, индейское племя или запорожское братство, – с точки зрения представителей этих обществ, не оценивая их этически. Вот такие нравы. Вот так они видят, так переживают. Иногда казнят своих сыновей, что поделать.
Образ Андрия соединяет в себе взаимоисключащие, полярные культуры: «оседлую» польскую и «кочевую» запорожскую. Он принадлежит как миру «православного воинства», так и миру европеизированного католицизма. В нем сталкиваются две разные «стадии» человеческой истории. Казачество, живущее по законам эпоса, не знающее государственности, сильное своей неупорядоченностью, дикой вольницей и первобытным демократизмом, и – огосударствленное шляхетство, «где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве». Такова художественная версия истории, которую создает в своей повести Гоголь, и в ее рамку он помещает все события и всех ее героев.
Тарас и Остап – герои эпоса, поэтому они изображаются широкими мазками, от них бесполезно требовать доброты или утонченности. Польская красавица – героиня европейского романа, от нее бесполезно требовать бесстрашия. «Жиды», изображенные Гоголем с нескрываемым презрением, безродны, а потому свободно снуют туда и сюда. И лишь в Андрие есть как черты героя эпоса, так и черты героя романа. Рожденный казаком, он «заражается» польским духом, раздваивается между полюсами – и гибнет. Губит его, конечно же, любовь. Но некий надлом присутствует в его образе изначально.
Андрий, вернувшийся из бурсы, ни в чем не уступает Остапу. Могуч, как он, ростом в сажень, смел, хорош собою. В бою он беспредельно храбр, удачлив. Однако на его образ постоянно ложится легкая тень. В первой же сцене повести – сцене возвращения – он слишком просто «спускает» Тарасу насмешку над собою, тогда как Остап, «правильный» сын, идет с отцом на кулаки. Кроме того, Андрий слишком тепло обнимает мать. В стилизованном мире «Тараса Бульбы» торжествует подчеркнуто мужская этика запорожцев, не признающая равенства женщины и мужчины. Только жалкий «жид» привязан к женщине и в минуту опасности прячется под юбкою «жидовки». Настоящий казак ставит своего друга выше, чем «бабу», а его семейные, родственные чувства куда слабее, чем чувство братства, товарищества.
Похожие книги на "Литературный навигатор. Персонажи русской классики", Архангельский Александр Николаевич
Архангельский Александр Николаевич читать все книги автора по порядку
Архангельский Александр Николаевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.