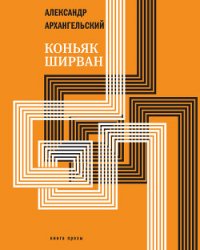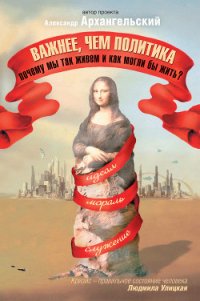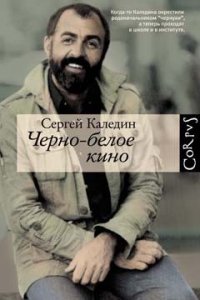Литературный навигатор. Персонажи русской классики - Архангельский Александр Николаевич
Наконец, само отношение Башмачкина к вожделенной шинели – и социально, и эротично («подруга жизни»), и религиозно. Мечта о новой шинели питает его духовно, превращается для него в «вечную идею будущей шинели», в идеальный образ вещи, существующий, в полном согласии с философом Платоном, до и помимо нее. День, когда Петрович приносит обнову, становится для Башмачкина «самым торжественнейшим в жизни» – неправильная стилистическая конструкция (либо «самый», либо «торжественнейший») уподобляет этот день Пасхе, «торжеству из торжеств». Прощаясь с умершим героем, автор замечает: перед концом жизни мелькнул ему светлый гость в виде шинели, но светлым гостем принято было именовать ангела. Жизненная катастрофа героя предопределена столько же бюрократически-обезличенным, равнодушным мироустройством, сколько и религиозной пустотой действительности, которой принадлежит Акакий Акакиевич, и пустотой самого Башмачкина. Что здесь причина, что следствие – определить невозможно. Социальная подоплека смерти несчастного героя насквозь метафизична; посмертное, «загробное» воздаяние, о котором автор сообщает то предельно всерьез, то предельно иронически, – насквозь социально.
Однако читатели XIX века рассматривали образ Акакия Акакиевича прежде всего в социальном контексте. Бесчисленные проекции этого образа (начиная с Макара Девушкина в «Бедных людях» Ф.М. Достоевского и заканчивая героями А.П. Чехова) направлены в морально-общественную плоскость, сведены к теме безвинно и безнадежно страдающего человека. Однако религиозно-философская энергия, заключенная в образе Башмачкина, в конце концов пробьется сквозь сугубо социальные наслоения – и отзовется в поздней прозе того же Ф.М. Достоевского (персонажи романа «Униженные и оскорбленные», Соня Мармеладова и Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», Хромоножка в «Бесах» и др.).
Коляска (1835, опубл. – 1836)
Чертокуцкий Пифагор Пифагорович – центральный персонаж анекдотической повести, помещик, «один из главных аристократов» южного города и уезда Б***, в котором останавливается *** кавалерийский полк.
Прототипом Чертокуцкого стал беспредельно забывчивый граф М.С. Виельгорский, анекдот из жизни которого (сохранившийся в записи В.А. Соллогуба) положен в основу сюжета повести: «однажды, пригласив к себе на огромный обед весь находившийся в то время в Петербурге дипломатический корпус, он совершенно позабыл об этом и отправился обедать в клуб; возвратясь, по обыкновению, очень поздно домой, он узнал о своей оплошности и на другой день отправился, разумеется, извиняться перед своими озадаченными гостями, которые накануне, в звездах и лентах, явились в назначенный час и никого не застали дома». Но никакой социальной или психологической общности между Чертокуцким и Виельгорским нет и быть не может.
Чертокуцкий в прошлом – кавалерийский офицер, вынужденный выйти в отставку из-за «неприятной истории» и продолжающий носить шпоры при фраке. Его «аристократизм» и даже «дендизм» комически срифмован с убогостью смертельно скучной жизни города, главную достопримечательность которого составляют свиньи. Главное занятие Чертокуцкого – обмен; капитал, взятый им за хорошенькой женой, тотчас употреблен на шестерку лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну и француза-дворецкого. Во время обеда, который дает бригадный генерал местному обществу, Чертокуцкий предлагает тому купить у него коляску «венской работы», выигранную у приятеля в карты; особо подчеркнуто, что она «вместительна». «Вместительность» этой коляски герою предстоит оценить самому – уже наутро.
Он приглашает всех офицеров к себе обедать, но, вернувшись в 3 часа мертвецки пьяным, не отдает никаких распоряжений насчет обеда и просыпается лишь тогда, когда экипажи гостей уже видны на горизонте. Чертокуцкий велит объявить прибывшим, что его нет дома, а сам прячется в багажном отделении коляски, где его, конечно же, обнаруживают офицеры, пожелавшие «взамен» обеда посмотреть «творение» венского мастера.
Повесть (как все произведения такого типа; ближайший литературный аналог – поэмы Пушкина «Граф Нулин» и особенно «Домик в Коломне») завершается как бы ничем: «А, вы здесь! <…> – сказал изумившийся генерал. <…> Тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами». Нарочитая «пустота» повести оказывается производной от пустоты самого героя, а его никчемность – производной от ничтожества самой окружающей жизни, которая проходит мимо своего собственного смысла.
Записки сумасшедшего (1834, опубл. – 1835)
Поприщин Аксентий Иванович – сорокадвухлетний дворянин, титулярный советник (статский чин 9-го класса); центральный и, по существу, единственный персонаж «петербургской повести». Судя по первоначальному названию – «Записки сумасшедшего музыканта», в центре сюжета должен был находиться типичный герой романтической прозы 1830-х годов, безумный гений. Одновременно замысел повести связан с работой над подчеркнуто «бытовой» (и оставшейся незавершенной) комедией Гоголя «Владимир Третьей Степени». Так романтическая фантастика совместилась с социальным бытописанием. И в точке их пересечения оказался образ Поприщина – отнюдь не гения, но совершенно ничтожного столичного чиновника.
Во всем совпадая с героем другой «петербургской повести», «Шинель», Акакием Акакиевичем Башмачкиным (от чина и «служебного положения» до старой шинели), Поприщин принципиально отличается и от него, и от большинства персонажей журнальных повестей 1830-х годов о «бедном чиновнике». Башмачкин – «потомственный разночинец», Поприщин (подобно бедному Евгению из «Медного всадника» А.С. Пушкина) – дворянин. Но ничего дворянского в нем не осталось; ничтожная департаментская служба (Поприщин очинивает перья) восхищает его «благородством», начальники вызывают у него восторг и трепет величием положения, обхождением, «ученостью» – знанием «иностранных языков». Поприщин выпал из дворянской культуры – он читает «мещанскую» булгаринскую газету «Северная пчела», приписывает Пушкину сентиментальные вирши Н.П. Николева, ходит в театр на представление «купеческой» комедии П.И. Григорьева-первого про русского дурака Филатку и проч. Сама фамилия Поприщин словно колеблется между взаимоисключающими ассоциациями – с духовным поприщем, социальной попранностью и – прыщом. Именно поэтому Поприщин оказывается героем сюжета, трагически пародирующего традиционную историю о героях-любовниках, которые принадлежат к разным классам общества. Как, например, в «Бедной Лизе» Карамзина; карамзинская стилистика насмешливо цитируется в повести Гоголя. В конце концов этот сюжет аккуратно подменяется столь же традиционным сюжетом о безумном герое.
Поприщин не сознает противоречия между своим сословным статусом и чиновным положением. До тех самых пор, пока не влюбляется в дочку директора, Софи, и не обнаруживает, что между ними лежит бюрократическая пропасть.
Само по себе помешательство Поприщина отнюдь не следствие этого печального открытия: он начинает понимать «собачий язык» и вслушиваться в разговор директорской собачки Межи с Фиделькой, как только влюбляется в Софи. (Еще одна сюжетная пародия – на куртуазный мотив «любовного сумасшествия» благородного дворянина). Но, узнав из «выкраденной» им переписки собачек (которые в свою очередь тоже делят своих возлюбленных по сословиям хозяев), что Софи выходит замуж за камер-юнкера, Поприщин впервые в жизни задумывается: «отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? <…> Может быть, я сам не знаю, кто я таков?»
Поврежденный (уже поврежденный) разум Поприщина не в состоянии найти ответ – «отчего». И, подобно еретику-простолюдину, дворянин Поприщин вдруг задумывается о «царственном», «божественном» призвании всякого человека. Он становится самозванцем.
Обнаружив (запись от 5 декабря), что в Испании упразднен престол и предстоит избрание преемника, Поприщин делает важнейшее открытие: он и есть испанский король, инкогнито живущий в Петербурге. Все противоречия социального мироустройства, казалось бы, разрешены, начинается новый отсчет времени – «Год 2000 апреля 43 числа», «Мартобря 86 числа. Между днем и ночью», «Никакого числа. День был без числа», «Мадрид. Февруарий тридцатый», «Чи 34 сло Мц гдао, февраль 349» и др. Если любой «нормальный» чиновник должен возмущаться всяким отступлением от общепринятого «нумерологического» порядка («дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет <…>, не выставишь ни числа, ни №»), то теперь, став королем испанским Фердинандом VIII, Поприщин упраздняет испорченный земной счет. Время в окружающем мире убито дьявольски-мертвенной упорядоченностью бюрократии; только разорвав эту преграду, можно будет преодолеть и земное пространство, ставшее тюрьмой для человека. «Мне подайте человека! Я хочу видеть человека!» – восклицает Поприщин в первой же записи без числа, задолго до того, как просыпается испанским королем.
Похожие книги на "Литературный навигатор. Персонажи русской классики", Архангельский Александр Николаевич
Архангельский Александр Николаевич читать все книги автора по порядку
Архангельский Александр Николаевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.