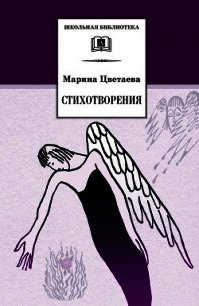Марина Цветаева. По канату поэзии - Гиллеспи Алиса Динега
Вернуться
200
Рильке родился в 1875 году в семье, принадлежавшей к немецкому этническому меньшинству Праги, входившей в те годы в состав Австро-Венгерской империи. Первый толчок к сопровождавшему его всю жизнь интересу к славянским культурам был получен поэтом в годы юности, проведенные в Праге. См. краткую биографию Рильке и введение в его творчество в: Brodsky P. P. Rainer Maria Rilke. Boston: Twayne Publishers, 1988. О роли России в творческой судьбе Рильке см.: Tavis A. Rilke’s Russia: A Cultural Encounter. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1994.
Вернуться
201
См.: Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1996. P. 138–141. Переписка Цветаевой с Рильке, которую оба адресата вели исключительно по-немецки, опубликована в: Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa, Boris Pasternak: Briefwechsel / Eds. E. B. Pasternak, E. V. Pasternak, K. M. Asadowskij. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983 (далее: Briefwechsel); русский перевод: Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года / Подг. текстов, сост., предисл., пер. и коммент. К. М. Азадовского, Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак. М.: Книга, 1990 (далее: Письма 1926 года). Цветаева с детства в равной мере владела русским, немецким и французским языками, что позволило ей глубоко понять не только немецкие стихи Рильке, но и его французский сборник «Vergers», присланный ей поэтом вскоре после выхода в свет. Тонкое рассуждение о воздействии трилингвизма Цветаевой на ее поэзию см. в: Beaujour E. K. Alien Tongues: Bilingual Russian Writers of the «First» Emigration. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1989. Дошедшая до нас переписка Цветаевой и Рильке включает девять писем и открытку, написанные Цветаевой Рильке при его жизни; шесть писем Рильке и его «Элегию Марине Цветаевой-Эфрон». Однако, может возникнуть впечатление, что писем Рильке было семь; обращаясь к Пастернаку сразу после смерти Рильке, она упоминает о его последнем письме, датированном 6 сентября и кончающемся словами «Весной? Мне тревожно. Скорее! Скорее!» [Im Frühling? Mir ist bang. Eher! eher!] (6: 266); о том же последнем письме Рильке Цветаева пишет в письме к Нанни Вундерли-Фолькарт (7: 355). Последнее известное нам письмо Рильке к Цветаевой помечено 19 августа; в нем цитированных Цветаевой слов не содержится, однако есть близкие по смыслу. Нельзя исключить, что в письме к Пастернаку Цветаеву просто подводит память.
Вернуться
202
Это родство проявлено в поразительной общности поэтических тем, проблем, символов и мифов. Творческая завороженность Рильке темой смерти (см.: Brodsky P. P. Rainer Maria Rilke. P. 29–30) особенно важна в контексте его отношений с Цветаевой, где столь важную роль играла его собственная смерть. Бродская упоминает также общую для обоих поэтов «систему образов падения, восхождения и нисхождения» (Brodsky P. P. On Daring to be a Poet: Rilke and Marina Cvetaeva // Germano-Slavica. 1980 (Fall). № 3. Issue 4. P. 265). Хейсти, однако, указывает, что, несмотря на многочисленные совпадения, Рильке и Цветаева были ориентированы практически противоположным образом: «То, чего у Цветаевой поэт достигает в привилегированной области языка, у Рильке он обретает в самом себе, достигая состояния гармонии, равновесия и самодостаточности, чуждого Цветаевой. В частности, по этой причине Рильке ищет покоя и одиночества, тогда как Цветаева стремится к болезненно невозможному, невероятному общению – свиданиям, которые могут состояться только в поэзии» (Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 162).
Вернуться
203
Briefwechsel: 104. Письма 1926 года: 84.
Вернуться
204
Briefwechsel: 105. Письма 1926 года: 84–85. Рильке также послал Цветаевой свои «Сонеты к Орфею»; вся книга Хейсти «Орфические путешествия Цветаевой» представляет собой превосходное исследование мифа об Орфее в поэтике Цветаевой.
Вернуться
205
Briefwechsel: 118. Письма 1926 года: 95.
Вернуться
206
Позже Цветаева напишет Пастернаку: «…я никого не любила годы – годы – годы. Последнее – вживе – то, из чего Поэма Конца <…>» (6: 275). Цветаева чувствовала, что Родзевич, роман с которым подтолкнул ее к написанию «Поэмы Конца», был единственным мужчиной, которому она была интересна как женщина, а не как поэт (см.: Feiler L. Marina Tsvetaeva: The Double Beat of Heaven and Hell. Durham, N.C.: Duke University Press, 1994. P. 145–147). Если верить далеко не благожелательным воспоминаниям современников, Родзевич просто не был способен оценить ее как поэта, да и не стремился к этому.
Вернуться
207
Цветаева хранила рильковскую «Marina Elegie» в тайне от всех, кроме Пастернака, вплоть до 1936 года, когда послала ее своей чешской приятельнице и корреспондентке Анне Тесковой (см. сопроводительное письмо к Тесковой; 6: 443–444); стихотворение это, однако, было уже к тому времени известно из черновиков Рильке. Рильке незадолго до смерти, помимо «Элегии», написал еще несколько коротких текстов. Небезынтересно, что Анна Тавис понимает поэтическую автоэпитафию Рильке, сочиненную им незадолго до смерти – «Роза, о совершеннейшее из противоречий / блаженство ничейного сна / под этим множеством век» [Rose, oh reiner Widerspruch, Lust / Niemandes Schlaf zu sein unter soviel / Lidern] (пер. Н. Болдырева из: Хольтхаузен Г. Р. М. Рильке, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций) / Пер. с нем., сост., приложения и послесловие Н. Болдырева. Челябинск: Урал LTD, 1998) – как его последнее обращение к Цветаевой (Tavis A. Russia in Rilke: Rainer Maria Rilke’s Correspondence with Marina Tsvetaeva // Slavic Review. 1993 (Fall). № 52. Issue 3. P. 508–509).
Вернуться
208
Simpson’s Contemporary Quotations: The Most Notable Quotes Since 1950 / Comp. J. B. Simpson. Boston: Houghton Mifflin, 1988. P. 344.
Вернуться
209
В надписи на экземпляре сборника «Психея», который Цветаева отправила Рильке вслед за первым письмом, она, как кажется, примеряет маску Психеи, идентифицируя Рильке с Амуром: «Райнеру Мария Рильке – моему самому любимому на земле и после земли (над землей!)» (Briefwechsel: 111; Письма 1926 года: 89).
Вернуться
210
Таким образом Амур (Эрос), муза Цветаевой, превращается в Азраила, ангела смерти в исламе и иудаизме, который, так же, как и Амур, пользуется в своем ремесле луком и стрелами (см. коммент. Майкла Найдана в: Tsvetaeva M. After Russia / Trans. and ed. M. Naydan. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1998. P. 238, note 57). Цветаева с ее острым поэтическим слухом не могла не заметить фонетического сходства этих мифологических имен, «Эрос» и «Азраил». Ср. два стихотворения Цветаевой об Азраиле: «Азраил» (2: 168) и «Оперением зим…» (2: 168–169); в последнем она именует героя «последним любовником».
Вернуться
211
Напомню, что в эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (5: 397–428) Цветаева ассоциировала лирику с кругом, а мысль – со стрелой.
Вернуться
212
К. М. Азадовский в своих заметках и комментариях как в немецком (Briefwechsel), так и в русском (Письма 1926 года) изданиях, сопровождает переписку Рильке и Цветаевой сообщением множества фактических и контекстуальных сведений. Как правило, исследователи творчества Рильке игнорируют его переписку с Цветаевой, счастливое исключение – комментарий Уолтера Арндта: «Отношение Райнера с Мариной было в его жизни абсолютно уникальным, здесь два равновеликих сознания столкнулись, узнали и наэлектризовали друг друга» (The Best of Rilke / Trans. W. Arndt. Hanover, N.H.: University Press of New England, 1989. P. 147). Это молчание рильковедов, возможно, повлияло на исследователей творчества Цветаевой, считающих, что страсть в этой уникальной переписке была в основном односторонней. Впрочем, этой одной стороне было уделено достаточно внимания, см., прежде всего книгу Хейсти «Tsvetaeva’s Orphic Journeys» (главы 6 и 7) и публикации Анны Тавис: «Beyond Rilke: Marina Tsvetaeva» в кн. «Rilke’s Russia» (глава 9), «Russia in Rilke: Rainer Maria Rilke’s Correspondence with Marina Tsvetaeva», и «Marina Tsvetaeva Through Rainer Maria Rilke’s Eyes» в сб.: Марина Цветаева: 1892–1992 / Под ред. С. Ельницкой и Е. Эткинда. Northfield, Vermont: The Russian School of Norwich University, 1992. P. 219–229. Слова Тавис о том, что Цветаева по отношению к Рильке «все больше потакала своим желаниям» и все настойчивее «требовала» от него, говоря словами Валерия Брюсова, «жуткой интимности» (Russia in Rilke. P. 503), как и ощущение Хейсти, что Цветаева «напориста» (P. 162) и своими «претензиями и требованиями» «осаждает» Рильке (P. 161), несут на себе печать, к сожалению, общепринятой манеры характеризовать переписку Цветаевой и Рильке. Мне ближе мнение Патрисии Поллок Бродской, высказанное в статье «On Daring to Be a Poet», о том, что «в своих письмах Цветаева относится к Рильке с очаровательной смесью поклонения и дерзости» (P. 263). Бродская, прекрасно знающая поэзию как Рильке, так и Цветаевой, формулирует здравое и взвешенное представление об обоих корреспондентах: «Рильке нашел в Цветаевой неожиданную и требовательную позднюю дружбу; она обрела в нем творческую ровню и друга, письма которого помогли ей переносить невзгоды» (P. 262).
Похожие книги на "Марина Цветаева. По канату поэзии", Гиллеспи Алиса Динега
Гиллеспи Алиса Динега читать все книги автора по порядку
Гиллеспи Алиса Динега - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.