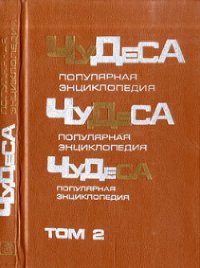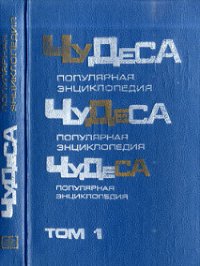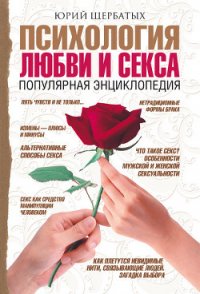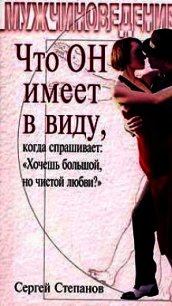Популярная психологическая энциклопедия - Степанов Сергей Сергеевич
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 198
В современной отечественной психологии изучение познавательных процессов, в частности памяти, оказалось сильно потесненным иными тенденциями – в первую очередь акцентированием проблематики личностного роста и межличностной коммуникации. Однако не подлежит сомнению, что это временная ситуация, ибо изучение личности бессмысленно при игнорировании природы познавательных процессов. Ибо справедливо много лет назад заметил Э.Клапаред: «Память подобна двусторонней улице: теория памяти должна обязательно зависеть от интерпретации идеи Я, а способ, по которому мы создаем Я, зависеть от конфигурации памяти».
ПАНИКА (от греч. panikon – безотчетный ужас; от имени древнегреческого божества Пана, который, согласно мифу, своим безобразным обликом внушал людям неодолимый страх) – групповая реакция страха перед лицом реальной или воображаемой опасности, нарастающая в процессе взаимного психического заражения. Характеризуется общим упадком морально-психического состояния, утратой способности рационально оценивать обстановку, временной деформацией социальных мотивов, активным действием механизмов подражания, беспорядочной подвижностью. Группа людей тем легче впадает в панику, чем менее значимы ее общие цели, чем ниже ее сплоченность и авторитет ее лидеров.
Условия возникновения паники: социально-ситуативные, связанные с общей обстановкой психической напряженности в экстремальных условиях (война, катастрофа, стихийное бедствие и т. п.); общепсихологические – безотчетный испуг, связанный с недостатком информации об источниках угрозы и мерах противодействия ей; физиологические – истощение, переутомление, опьянение и др.
Знание условий и психологических механизмов возникновения паники позволяет разрабатывать меры по ее предотвращению и пресечению.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В старой притче рассказывается о том, как некто перед вратами рая, предвкушая встречу с великими праведниками и героями, попросил апостола Павла показать ему величайшего полководца всех времен и народов. И апостол указал ему на скромную фигуру человека, который также дожидался своей очереди перед райскими вратами. «Это ошибка! – в недоумении воскликнул вопрошавший. – Этого человека я знал при жизни – он был обычным сапожником». – «Нет никакой ошибки, – ответил апостол. – По своим способностям именно этот человек и есть самый великий полководец».
Как же происходят такие недоразумения? Ответом на этот вопрос может послужить реальный жизненный пример, о котором любят упоминать биографы Альфреда Адлера. В школе будущий психолог не отличался усердием и успехами не блистал. Хуже всего давалась ему математика. Вконец раздосадованный учитель вызвал однажды его отца и посоветовал забрать мальчика из школы ввиду его полной неспособности к наукам. В качестве альтернативы учитель предложил отдать Альфреда в подмастерья к сапожнику!
К счастью, Адлер-старший не послушался совета. А юный Альфред решил доказать учителю его неправоту и с усердием засел за математику. Через год он был первым учеником в классе.
Остается только догадываться, сколько послушных отцов вняли учительским советам и сколько потенциальных ученых, мыслителей и творцов были в результате обречены стать заурядными ремесленниками.
На протяжении веков большинство педагогов сходились во мнении, что одни дети более способны к учению, чем другие, а есть и такие, которые в силу ограниченности ума и вовсе к учению не способны. Обучать первых было легко и приятно, вторых – труднее, но тоже возможно. От третьих по возможности старались избавляться, если только решением проблемы не выступал родительский кошелек или титул – принцу, будь он хоть трижды тупица, образование было обеспечено.
Не будем, однако, забывать, что на протяжении почти всей многовековой истории человечества образование исчерпывалось усвоением весьма ограниченного круга знаний и умений. Еще не так давно достаточно образованным считался человек, владеющий грамотой, элементарными навыками счета, а прочими знаниями овладевший в рамках современного курса вспомогательной школы «Ознакомление с окружающим миром». В средневековой Европе науками владели единицы и даже просто грамотные составляли ничтожное меньшинство населения. Так что освоить «базовый курс» было по силам любому, кто не страдал тяжелой умственной отсталостью. В силу этого проблема школьного отбора долгие годы просто не ставилась. Актуальной она стала лишь тогда, когда научные знания, в отличие от прежнего неспешного накопления по крупицам, стали прирастать лавинообразно, и соответственно стали углубляться и расширяться программы обучения. Другой причиной, диктовавшей необходимость отбора, стало введение всеобщего образования (сперва – начального) для удовлетворения насущных нужд интенсивно развивавшегося индустриального общества. Впервые о проблеме отбора всерьез заговорили в середине XIX в., а вплотную к ее решению подошли на рубеже XIX–XX вв. Судя по тому, что острые дискуссии на эту тему не стихают по сей день, проблема эта и сегодня далеко не исчерпана.
На протяжении полуторавековой истории школьного отбора в нем все более явно обозначались две основные тенденции. Во-первых, это постепенный переход от грубых форм деления детей на «чистых» и «нечистых» к более тонким и дифференцированным формам селекции. В то же время сам факт сортировки детей явно или неявно означает ограничение образовательных возможностей для определенного сегмента выборки, то есть дифференциация легко выливается в дискриминацию. Если при этом вольно или невольно предпочтение отдается определенному сословию, полу или расе, то негодование общественности неизбежно. Соответственно набирает силу другая тенденция – нарастающая борьба против какого бы то ни было отбора в пользу предоставления равных образовательных возможностей всем без исключения. Однако, как бы ни силились это отрицать экзальтированные «гуманисты», индивидуально-психологические различия, в том числе и различия в уровне интеллекта, творческих способностей и т. п., реально существуют, и школьная практика свидетельствует об этом ежедневно. Попытки совместного обучения детей с разными возможностями порождают больше проблем, чем решают, и большинство учителей, не склонных к идеализации действительности, без колебаний с этим согласятся. Поэтому противоборство эгалитаристов и сторонников селекции по сей день продолжается с переменным успехом то одной, то другой стороны. Причем назвать это успехом – даже не совсем точно. Ибо этот «успех» достигается тогда, когда противоборствующая сторона проявляет слишком много усердия, так что издержки ее подхода становятся вопиюще очевидны. С одной стороны, усилия эгаллитаристов закрепляют социальное (половое, расовое) неравенство, а это в наш век демократических иллюзий многих шокирует. К тому же никакая система селекции не безупречна, о чем свидетельствуют примеры случайных успехов ранее «отбракованных» детей. И это служит весомым аргументом против селекции. С другой стороны, отказ от отбора выливается в уравниловку и приводит в конечном счете к массовому снижению уровня образования (малоспособные не в состоянии превысить свой уровень, и школе приходится под него подстраиваться, «пригибая» более способных). И маятник школьной политики, запущенный много лет назад, по сей день никак не придет в равновесие и качается то в одну, то в другую сторону.
Чтобы разобраться в этих тенденциях, рассмотрим их подробнее с самых истоков.
С давних пор учение совершенно справедливо рассматривалось как умственная деятельность, то есть такая деятельность, которая требует способности к умственным усилиям, так же, впрочем, как и определенных личностных качеств (каковыми испокон веку в школьной практике почитались послушание, дисциплинированность, усидчивость). Однако само наличие этой способности оценивалось полярно – есть она или нет (проблема дисциплины по большому счету даже не ставилась, ибо легко решалась с помощью розги; небезынтересно, что в некоторых «цивилизованных» странах, представители которых ныне учат нас гуманизму, школьников продолжали нещадно сечь до самого недавнего времени). Подобно тому, как в плане психического здоровья принято было делить людей на «нормальных» и «сумасшедших», так и в плане интеллекта, обучаемости считалось, что большинство обладает достаточными способностями для усвоения знаний, но есть и ущербные индивиды, не пригодные ни к чему. На этом основании и строились первые попытки школьной селекции, призванные отделить «нормальных» от «ненормальных».
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 198
Похожие книги на "Популярная психологическая энциклопедия", Степанов Сергей Сергеевич
Степанов Сергей Сергеевич читать все книги автора по порядку
Степанов Сергей Сергеевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.