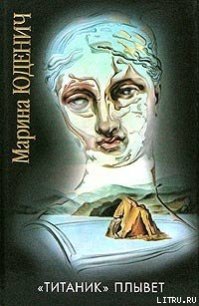Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.
Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него
сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене
он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
…Веселье в зале умеряет пыл,
но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга
подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем…
И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,
мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца —
отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках.
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках
субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.
Отечество… чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,
нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье — сплетней,
фигурой умолчанья об отце…
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце
горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.
Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натыкаясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.
Январь 1968, Паланга
Я покидаю город, как Тезей —
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.
Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества! Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навеки уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.
В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И — дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных —
Бог отнимает всякую награду
(тайком от глаз ликующей толпы)
и нам велит молчать. И мы уходим.
Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущенье униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.
Когда-нибудь придется возвращаться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет, с центральных площадей
и башен.
А для странника — с окраин.
1967