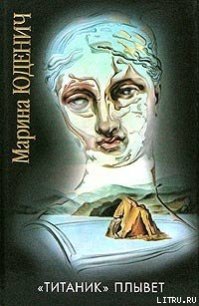Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,
В сумеречном воздухе исчезающие небеса?
Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли ты волосы с красными гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?
«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут…» —
это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.
Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака…» — это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин всё — биение, всё — дрожание голосов.
Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит,
привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью…
«Проплывают облака…» — это дети поют обо всем.
Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя, переплетаются звенящие голоса,
возле узких вершин в новых сумерках, на мгновение
видишь сызнова, видишь сызнова угасающие небеса?
Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей,
где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль осенних оград,
всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть ребенком ночью,
и смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.
Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев неясных,
в новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья сложить.
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь, только жить.
1961
А. А. Ахматовой
Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.
Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.
И помчатся, задевая за кусты,
невидимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.
Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным солнцем залитой,
на вопросы и проклятия в ответ,
обволакивая паром этот свет.
Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.
Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.
Вы поднимете прекрасное лицо —
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту —
на мгновенье взбудоражит пустоту.
Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству без памятника Вам.
В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишите о нас наискосок.
Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
этот воздух запустевший — только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!»
Июнь 1962