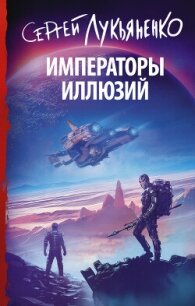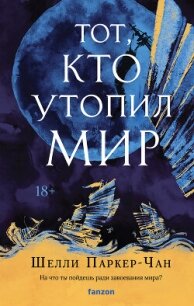В тени богов. Императоры в мировой истории - Ливен Доминик
Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 145
Большинство империй и императорских монархий было основано военачальниками. Это справедливо даже для коренных китайских династий Хань, Сун и Мин. В долгосрочной перспективе на первый план обычно выходили религиозные и культурные нормы. Конфуцианский и буддистский монарх был мудрецом и моральным компасом, а не воином, но некоторые китайские монархи из полностью коренных династий стремились к военной славе, а большинство сохраняло за собой последнее слово в вопросах генеральной стратегии и назначений на высшие военные посты. Европейские феодальные монархи и потомки воинственных кочевников, напротив, чтили свои военные традиции и должны были поддерживать их, чтобы сохранить уважение благородных элит. Стремление к военной славе порой приводило монархов к катастрофе. С другой стороны, победа на поле боя почти во всех империях приносила императорам величайшую славу и легитимность. В военном лагере император мог ощутить дух товарищества и свободы, который непросто было отыскать в его дворце и при дворе. Кроме того, правитель с военным опытом порой имел лучшую подготовку и закалку, когда возникала необходимость в кризисном менеджменте и быстром принятии решений перед лицом большой опасности и неопределенности.
Еще сильнее, чем большинство государств, империя нуждалась в мощной, но верной армии, которая сокрушала врагов из чужих стран, но при этом не представляла угрозы для собственного правительства. Римская императорская монархия хуже всего сочетала военную мощь с лояльностью. Периодические военные перевороты и гражданские войны между генералами принесли империи немало вреда. Главной причиной этого была слабость династического принципа в Риме. Из всех империй, изучаемых в этой книге, лучше всего этот принцип соблюдался в империях феодальной Европы и Европы раннего Нового времени. Это объясняет, почему европейские армии раннего Нового времени были одновременно и грозными, и лояльными. Монархи и офицеры благородных кровей происходили от феодальных воинов и имели одинаковые ценности и амбиции. Их сплачивали общий опыт, ритуалы, истории об отваге, традиции и чувство, что им отведены лишь временные роли в долгой эпичной семейной драме. Как в реальности, так и символически эти армии олицетворяли тесный союз между монархией и классом благородных землевладельцев, который был фундаментом большинства европейских государств раннего Нового времени. Форма офицера связывала его с его монархом и имела огромное символическое значение. На форме помещалось немало полускрытых кодов: наиболее очевидными были королевский вензель и корона, но, например, горжет на шее у офицера был последним элементом, оставшимся от рыцарских доспехов феодальной эпохи. Прусские, российские и австрийские монархи с середины XVIII века все реже появлялись на публике не в военной форме. Не стоит также забывать, что военная форма обладает банальной, но огромной привлекательностью. В XIX веке, когда мужской деловой костюм становился все скучнее и формальнее, дизайн военной формы шел в противоположном романтическом и экзотическом направлении. Полуколониальные шотландские килты и казачьи черкески добавляли лоска одеяниям британских и российских монархов эпохи высокого империализма36.
Успешные империи были основаны на тесном и стабильном союзе монархии и землевладельческих элит. В долгосрочной перспективе в старые времена невозможно было поддерживать функционирование единого для всей империи бюрократического аппарата, который был достаточно велик и эффективен, чтобы не принимать в расчет эти элиты и работать напрямую с крестьянами. Союз монархии и местных элит требовал фиксированного соглашения о дележе излишков продукции, изымаемых у крестьянства. Заключить его было непросто. Эксплуатация крестьян не должна была доводить их до погибели, бунта или бегства. До наступления Нового времени все монархии были иерархическими, эксплуататорскими и ориентированными на интересы своекорыстных элит. Они, однако, также заявляли, что служат идеалам справедливости, и это находило отклик у народных масс. Миф о справедливом и великодушном императоре почти всегда играл ключевую роль в том, как императорские режимы представляли себя своим подданным словом, ритуалом и образом. Если реальность категорически не соответствовала этому мифу, возникала опасность. Особенно серьезной становилась проблема в том случае, если внезапно повышались давно установившиеся нормы эксплуатации. Даже без учета алчности и нерадивости монархов и аристократов, трудность заключалась в том, что плохие урожаи, погодные условия и масса природных катаклизмов легко подрывали неизменно хрупкий привычный порядок взаимодействия между императором, элитами и крестьянами. Его подрывали и растущие внешние угрозы, которые вынуждали монархию увеличивать численность армии и повышать налоги37.
Элиты, естественно, не стремились делиться своими излишками с монархом, особенно если видели в нем иностранца, который жил далеко от них. Их нужно было убеждать в необходимости этого. Обычно, особенно в первые десятилетия правления династии, без принуждения не обходилось. В более длительной перспективе элиты нужно было привязывать к монархии, взывая к личной заинтересованности и чувствам культурной, идеологической, религиозной и солидарности. Королевские дворы часто играли главную роль в укреплении союза между монархами и высшим эшелоном элит. При дворе распределялись блага, на которых основывалась политика императорской монархии. Двор мог быть великолепной ярмаркой невест для аристократических семейств. Там монарх и аристократ налаживали личный и порой даже неформальный контакт. Часто двор становился площадкой для всевозможных развлечений: музыки, театра, бесед. Монарх мог выступать в роли щедрого хозяина. Королевская охота, распространенная почти во всех евразийских монархиях, отчасти заменяла войну в качестве арены для мужского товарищества, а также для демонстрации смелости и искусства верховой езды38.
Придворные были и зрителями, и участниками блистательного, тщательно срежиссированного балета, в центре которого стоял монарх. На официальных мероприятиях каждый шаг и жест правителя должен был источать величие, внушать трепет и свидетельствовать о великодушии. Восседая на троне, монарх был окружен роскошно одетой стражей и придворными, занимающими места в соответствии со своим положением. Это отражало ключевой принцип иерархии, которая определялась близостью к монарху. В определенной степени это наблюдалось при дворе всех императоров, от династии Ахеменидов в V веке до н. э. до Людовика XIV и далее. Когда мы сегодня смотрим на какую-нибудь гигантскую картину с изображением придворного мероприятия, где присутствуют аристократы в причудливых париках и огромных юбках, происходящее на полотне кажется нам абсурдным, поскольку скрытые в ней коды потеряли актуальность и общепонятность. Но в свое время изображенные на картине люди “считали” бы все в мельчайших подробностях, поскольку расположение фигур, одежда и рыцарские ордена многое рассказали бы о каждом из присутствующих.
Тем не менее пример Людовика XIV обманчив, а идея о короле-антрепренере не универсальна. Даже по европейским стандартам французский король был уникален в том, что постоянно пребывал у всех на виду. Китайские и османские императоры были куда менее заметны. За пределами Европы монарх мог неделями пропадать за стенами своего гарема. Даже на публике он порой бывал недвижим, как статуя. Послы Людовика XIV, отправленные в 1680 году к королю Таиланда, “вошли в совершенно другой мир священного царствования. Здесь они увидели королей, которые сидели на троне, подобно богам”. Послов тайского короля, отправленных в Версаль, в свою очередь поразила неформальность двора, где монарха осаждали толкающиеся придворные, которые искали расположения, пока он прохаживался по коридорам своего дворца, беседуя с доверенными лицами. О многом говорит и разница между главными дворцами нынешних британских и японских монархов. Букингемский дворец и подходы к нему построены для публичных церемоний и показов. Резиденция японского императора представляет собой скромную группу из небольших современных зданий, скрытых от глаз за деревьями императорского сада. В честь коронации Елизаветы II по европейской традиции было устроено роскошное торжественное шествие по улицам Лондона. Самые важные и священные элементы в ритуалах восшествия на престол японского императора осуществляются в частичной, а порой и полной секретности. Они производятся не напоказ и лишены театральности. Предполагается, что наблюдать за ними должны небеса, а не придворные и тем более не народные массы39.
Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 145
Похожие книги на "Сделай, что сможешь. Начало", Лео Андрей Васильевич
Лео Андрей Васильевич читать все книги автора по порядку
Лео Андрей Васильевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.