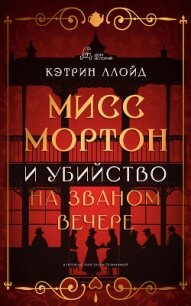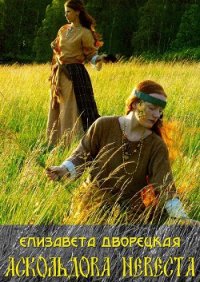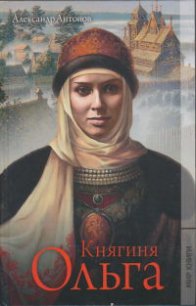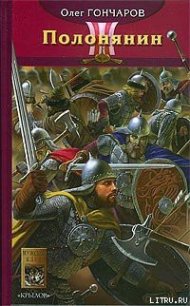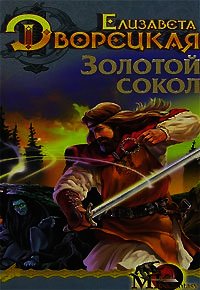"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
Далее княгиня уходит от разговора, ссылаясь на приезд Святослава, и обещает вернуться к обсуждению позже.
Потом происходит поразительная сцена: Ольга и Святослав заходят в гости на двор Свенельда, туда же слуги приносят на скрещенных руках дряхлого старца Асмуда и заодно некий стул, который оказывается походным троном князя Игоря. И Ольга предлагает сыну немедленно на него сесть.
«Святослав дико озирался.
– Это не затея змеинохитрой Ольги, сын мой. Это решение христианки Елены. Ты жаждешь. Утоли свою жажду…»
«Змеинохитрой!» Так Ольга сама себя определяет как княгиню, и совершенно справедливо. Но передает престол сыну, чтобы самой отдохнуть от мирской суеты. Святослав садится, а Ольга обещает обойти веси, ловли и погосты, которые она поставила, чтобы лично оповестить о его восшествии. На меня эта сцена с восшествием Святослава на походный трон с «выездной сессией» на чужом дворе, в присутствии матери и двух воевод, произвела глубочайшее впечатление.
Дальше немного пропустим, но вот наступает Купала. Глава так и называется – «Крест над Купалой». Описываются игрища, а далее, гуляючи у Днепра, Святослав видит, как два всадника хватают идущего через поле крестьянина и плетьми гонят к странному шествию.
«Чтобы лучше видеть, князь забрался на дерево. Сотни две христиан, сотня варягов. Кресты, деревянная, раскрашенная статуя Богородицы, повозка с Распятием. В повозке – епископ Адальберт! К нему-то и притащили крестьянина. Суд епископа был коротким: бедного язычника подняли на помост, устроенный на другой повозке, привязали к столбу. Стегали розгами.
«Вон как они к Христу приучают!» Святослав быстро спустился на землю.
…До княжеского двора – далеко. Постоял, подумал и пошел, обходя христианских ревнителей, к Днепру.
Появлению Адальберта на поле не удивился. Епископ родом чех, чешское имя его Войтех, знает обычаи…»
Далее опять немного описания этих обычаев, и потом:
«Дурак! – подумал Святослав о епископе Адальберте. – Гнать его надо, пока люди не обиделись».
«Вдруг послышалось глухое, как из-под земли, пение. Пришел Адальберт со своими немецкими священниками и монахами, с варягами-христианами.
– Именем Господа Иисуса Христа заклинаю вас! – раздался властный голос епископа. Славянской речью говорил: – Вы тешите игрищами сатану! Вы – одно с мерзкими силами зла и тьмы. Образумьтесь! Поклонитесь, примите душой Единого Бога Творца, примите свет, и сами станете светом.
Парни и девки не понимали, чего от них хотят. Стояли, загородясь от епископа и его людей костром.
– Ступайте в воду! – епископ поднял крест. – Ступайте все в воду! Я крещу вас.
– Мы и без тебя в воду пойдем, без твоего креста! – откликнулись смелые и, сбрасывая одежды, стали плясать и петь купальские игривые песни.
– Бесовство! – закричал епископ. – Славянское бесовство!
Монахи, вооружась граблями, подступили к костру, принялись разбрасывать головни, топтать и гасить огонь. На людей епископ напустил варягов, вооруженных плетьми. Все кинулись в воду и, омывшись, поплыли по течению, чтоб скрыться от крестов и плетей.
Святослав плыл вместе со всеми…
…Созывать бояр, думать, как быть с послом императора Оттона, не пришлось. Киевляне, возмущенные ночным походом епископа, ворвались в палаты, где он стоял, измолотили колами да цепами монахов, разбросали рясы, скарб, а вот кресты, хоругви, статую Богородицы, распятье – не тронули.
Адальберт спрятался в погребе, в пустой бочке, его не нашли, но убить пообещали.
Епископ не дрогнул. В рогатой шапке, в мантии, явился к Святославу на княжеский двор, потребовал защиты от варваров.
– Я сам – варвар, – сказал Адальберту князь. – Ты напал на людей во время их праздника. Ты вразумлял не крестом, но кнутом. Если я возьмусь защищать тебя, народ и мне задаст на орехи, прогонит из Киева как миленького.
Ночью двор Адальберта загорелся. Пожар погасили быстро, но весь день летели через ограду камни, а то и стрелы.
…Адальберт бежал, оставив во дворе два креста над могилами убитых киевлянами монахов».
Далее автор кратко пересказывает жизнь Адальберта Пражского («чеха по имени Войтех»). Здесь автор смешивает двух разных людей – Адальберта Магдебургского и Адальберта Пражского. Они, конечно, тезки и в одинаковом звании, но нужный нам Адальберт – родом из Лотарингии, подданный Оттона, и жил на несколько десятилетий раньше другого: он умер в 981 году, а деятельность Адальберта Пражского приходится на 980-990е годы. Причина путаницы в том, что Адальберт Магдебургский был духовным наставником чеха Войтеха из знатного рода Славниковичей и дал ему при миропомазании имя своего небесного покровителя. Поэтому они стали тезками, и тем не менее простая справочная информация не позволила бы их спутать. Никаких связей с Русью Адальберт-Войтех не имел.
Не знаю, действительно ли В. Бахревский спутал двух Адальбертов по невнимательности или сделал это нарочно, чтобы иметь возможность упомянуть о том, что незадачливый миссионер был убит в ходе такой же миссии прусскими язычниками. Насчет Адальберта-Войтеха это правда. А если бы его героем был Адальберт Магдебургский, то пришлось бы сказать, что двадцать лет спустя тот умер спокойно, на высшей должности, имея репутацию мужа великой святости, что произвело бы в романе совершенно не тот художественный эффект. Но тогда почему этот герой объявлен посланцем Оттона – ведь Адальберт-Войтех жил в Чехии, а не в Восточно-франкском королевстве, и был (с середины жизни) подданным Болеслава Второго из рода Пржемысловичей. Общался с Оттоном III, а не его дедом – Оттоном I, пославшим эту миссию на Русь и умершем в 973 году… Создается впечатление, что автор просто слепил своего непримиримого епископа из двух разных людей, взял у каждого подходящие черты и создал персонаж, нужный для решения его художественных задач. И в этом смысле персонаж удачный: наглый самозваный «просветитель», грубо нарушающий законы и обычаи страны, куда явился, как выяснилось, без приглашения. И германец Оттон как его покровитель подходит на эту роль куда лучше чеха Болеслава – тот славянин все-таки, не предок будущих «псов-рыцарей».
Удивляет пассивная роль Святослава – уже восшедшего на трон и обладающего всей полнотой власти, тем более что вещей старицы в Киеве сейчас нет. Сначала он, сидя на дереве, просто наблюдает, как иностранцы-иноверцы творят насилия над его подданными, подвергают телесным наказаниям свободных людей, которые находятся в своей стране и не нарушили никаких ее законов. Потом князь так же молча смотрит, как чужаки оскорбляют славянских богов вмешательством в обряды, потом сам спасается в реке от плетей! Но молчит, целиком предоставляя инициативу простым людям. И простые люди решают проблему путем того же насилия: погром, избиение, поджог, убийства. А ведь Святослав мог бы это все предотвратить – и оскорбление праздника, и вызванные этим беспорядки с убийствами. Более того – обязан был, раз уже князь теперь он.
Возможно, таким путем автор хотел подчеркнуть, что весь народ отверг немецкую миссию, не боясь самых жестких средств. Повинными в навязчивости и грубом самоуправстве оказались Оттон и сам Адальберт, а княгиня Ольга виновата лишь краешком – она вовремя отреклась от миссии, потом уехала, бросив ее на произвол судьбы. Короче, умыла руки. Святослав же и вовсе един с народом во всем, от прыжков с девами через костер до принятия немецких плетей.
Такова в целом тенденция – решительное отрицание миссии Адальберта, полное неприятие самой возможности, чтобы русское христианство хоть чем-то было обязано католическому Западу и Римскому папскому престолу.
Это отрицание свойственно не только писателям-романистам. В «Очерках по истории русской церкви» А. В. Карташёв писал:
Похожие книги на ""Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ)", Дворецкая Елизавета Алексеевна
Дворецкая Елизавета Алексеевна читать все книги автора по порядку
Дворецкая Елизавета Алексеевна - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.