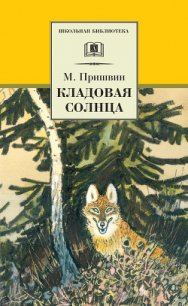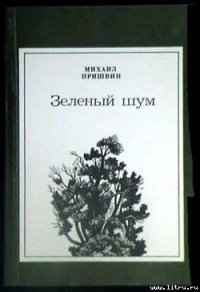Кладовая солнца - Пришвин Михаил Михайлович
Когда я проснулась, солнце прошло по небу уже порядочный путь. Белые лилии раскинули широко свои лепестки и, как дамы в кринолинах, танцевали на волнах с кавалерами в желтом под музыку быстро бегущей реки; волны под ними переливались на солнце тоже как музыка.
В воздухе над лилиями танцевали разноцветные стрекозы.
На берегу в траве танцевали трескунцы – кузнечики, голубые и красные, взлетающие вверх, как пожарные искры. Красных было больше, но, может быть, нам так показалось от жарких солнечных бликов в глазах.
Все двигалось, переливалось вокруг нас и благоухало.
Михаил Михайлович молча протянул мне часы: на них было половина одиннадцатого.
– Открытие бала ты проспала! – сказал он.
Жара нам была уже не страшна: мы вошли в лес и углубились по дороге. Она давным-давно когда-то была уложена кругляком: это люди сделали для подвоза дров к сплавной речке. Они вырыли две канавы, наложили между ними тонких стволов деревьев один к одному, как паркет. Потом дрова вывезли, а дорогу забыли. И лежит себе круглячок годами, гниет…
Теперь по осушенным бровкам встал высокий красавец иван-чай и тоже высокая пышная красавица медуница. Мы шли осторожно, чтоб их не помять.
Вдруг Михаил Михайлович схватил меня за руку и сделал знак молчанья: шагах в двадцати от нас по теплому круглячку между иван-чаем и медуницей разгуливала большая птица в переливчато-темном оперенье с ярко-красными бровями. Это был глухарь. Он темной тучей поднялся в воздух и с шумом скрылся между деревьями. В полете он показался мне огромным.
– Глухариная аллея! Делали для дров, а пригодилось птицам, – сказал Михаил Михайлович.
С тех пор мы так и зовем эту лесную дорогу на Хмельники «глухариной аллеей».
Еще нам попались на ней два забытых кем-то штабеля березовых дров. От времени штабели стали подгнивать и кланяться друг другу, несмотря на распорки, между ними когда-то поставленные… А рядом гнили их пни. Эти пни напоминали нам, что когда-то росли дрова прекрасными деревьями. Но вот пришли люди, срубили и забыли, и гниют теперь бесполезно и деревья и пни…
– Может быть, война помешала вывезти? – спросила я.
– Нет, это случилось много раньше. Еще какая-то другая беда людям помешала, – ответил Михаил Михайлович.
Мы с невольным сочувствием смотрели на штабели.
– Стоят они теперь сами будто люди, – сказал Михаил Михайлович, – склонились висками друг к другу…
Между тем вокруг штабелей кипела уже новая жизнь: внизу паутинками соединили их пауки и по распоркам перебегали трясогузки…
– Посмотри, – сказал Михаил Михайлович, – между ними растет молодой березовый подлесок. Он успел перешагнуть их высоту! Знаешь, откуда у этих молодых березок такая сила роста? – спросил он меня и сам ответил: – Это березовые дрова, сгнивая, дают вокруг себя такую буйную силу. Так вот, – заключил он, – дрова вышли из леса и в лес возвращаются.
И мы весело простились с лесом, выходя к деревне, куда держали свой путь.
На этом бы и можно закончить свой рассказ о нашем походе в то утро. Только еще несколько слов об одной березке: мы заметили ее, подходя к деревне, – молодую, в рост человека, похожую на девочку в зеленом платье. На головке ее был один желтый лист, хотя еще стояла середина лета.
Михаил Михайлович посмотрел на березку и что-то записал в книжку.
– Что ты записал?
Он мне прочел:
– «Видел Снегурочку в лесу: одна сережка у нее из золотого листика, а другая еще зеленая».
И это был в тот раз его последний мне подарок.
Писателем Пришвин сделался так: в молодые годы – давно это было, полвека назад, – он обошел пешком весь Север с охотничьим ружьем за плечами и написал об этом своем путешествии книжку. Был тогда наш Север диким, людей было там мало, птицы и звери жили, не пуганные человеком. Так и назвал он свою первую книжку – «В краю непуганых птиц». На северных озерах тогда плавали дикие лебеди. А когда много лет спустя Пришвин снова приехал на Север, знакомые озера были соединены Беломорским каналом, и по ним уже не лебеди плавали, а наши советские пароходы; много за долгую жизнь видел Пришвин на родине своей перемен.
Есть одна старинная сказка, она начинается так: «Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни две и сделала веселый колобок. Он полежал-полежал, да вдруг и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца во двор да за ворота – дальше, дальше…»
Михаил Михайлович к этой сказке приделал свой конец, будто за этим колобком сам он, Пришвин, пошел по белу свету, по лесным тропам и берегам рек, и моря, и океана – все шел и шел за колобком. Так и новую книжку свою он назвал – «Колобок». Впоследствии тот же волшебный колобок привел писателя на юг, в азиатские степи, и на Дальний Восток.
О степях есть у Пришвина повесть «Черный Араб», о Дальнем Востоке – повесть «Жень-Шень». Эта повесть переведена на все основные языки народов земного шара.
Из края в край обежал колобок нашу богатую родину и, когда все осмотрел, стал кружиться возле Москвы, по берегам маленьких речек – тут была и какая-то речка Вертушинка, и Невестинка, и Сестра, и какие-то безымянные озерки, названные Пришвиным «глазами земли». Тут-то, в этих близких нам всем местах, колобок открыл своему другу, пожалуй, еще больше чудес.
О среднерусской природе широко известны его книги: «Календарь природы», «Лесная капель», «Глаза земли».
Михаил Михайлович не только детский писатель – книги свои он писал для всех, но с одинаковым интересом читают их и дети. Писал он только о том, что сам видел и сам пережил в природе.
Так, например, чтобы описать, как происходит весенний разлив рек, Михаил Михайлович строит себе из обыкновенного грузовика фанерный домик на колесах, берет с собой резиновую складную лодку, ружье и все, что нужно для одинокой жизни в лесу, отправляется на места разлива реки нашей – Волги и там наблюдает, как спасаются от заливающей сушу воды самые крупные звери – лоси и самые маленькие – водяные крысы и землеройки.
Так проходят дни: за костром, охотой, с удочкой, фотоаппаратом. Весна движется, земля начинает обсыхать, показывается трава, деревья зеленеют. Проходит лето, потом осень, наконец летят белые мухи, и мороз начинает мостить дорогу в обратный путь. Тогда Михаил Михайлович возвращается к нам с новыми рассказами.
Все мы знаем и деревья в наших лесах, и цветы на лугах, и птиц, и разных зверушек. Но Пришвин поглядел на них своим особым зорким глазом и увидал такое, что нам и невдомек.
«Оттого лес называется темным, – пишет Пришвин, – что солнце смотрит в него, как сквозь узкое оконце, и не все видит, что совершается в лесу».
Даже солнце не все замечает! А художник узнаёт тайны природы и радуется, их открывая.
Вот он нашел в лесу удивительную берестяную трубочку, в которой оказалась кладовая какого-то трудолюбивого зверька.
Вот он побывал на именинах осинки – и мы подышали вместе с ним радостью весеннего расцвета.
Вот он подслушал песню совсем незаметной маленькой птички на самом верхнем пальчике елки – теперь он знает, о чем они все свистят, шепчутся, шелестят и поют!
Так катится и катится колобок по земле, сказочник идет за своим колобком, и мы идем вместе с ним и узнаём бесчисленных маленьких родственников в нашем общем Доме природы, учимся любить свою родную землю и понимать ее красоту.
Кладовая солнца
Сказка-быль

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.
Похожие книги на "Кладовая солнца", Пришвин Михаил Михайлович
Пришвин Михаил Михайлович читать все книги автора по порядку
Пришвин Михаил Михайлович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.