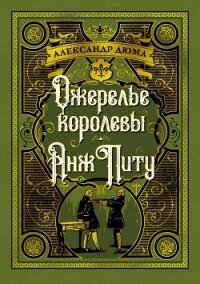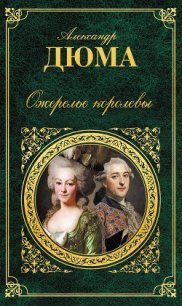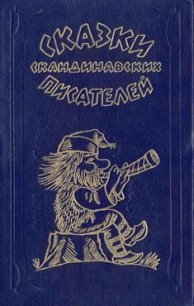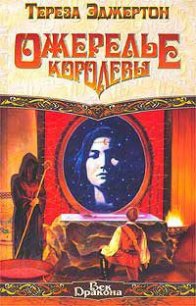Александр Дюма
Ожерелье королевы; Анж Питу
Alexandre Dumas
LE COLLIER DE LA REINE. ANGE PITOU
Перевод с французского
Елены Баевской («Ожерелье королевы», часть III; «Анж Питу», часть II, главы 22–40),
Ивана Русецкого («Ожерелье королевы», пролог, часть I; «Анж Питу», часть I, главы 22–30, часть II, главы 1–21),
Леонида Цывьяна («Ожерелье королевы», часть II; «Анж Питу», часть I, главы 1–21)
Иллюстрации
Франтишека Хорника («Ожерелье королевы»)
и Станислава Гудечека («Анж Питу»)
Тексты печатаются по изданиям:
Дюма А. Ожерелье королевы: В 2 т. М.: Пресса, 1992.
Дюма А. Анж Питу. М.: Пресса, 1994.
© Е. В. Баевская, перевод, 1991
© И. Г. Русецкий (наследник), перевод, 2025
© М. Е. Тайманова, перевод, 2025
© Л. М. Цывьян (наследник), перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление
⁂
Ожерелье королевы
Предисловие автора [1]
Прежде всего, позвольте мне дать небольшие пояснения нашим читателям относительно только что написанного нами заглавия. Вот уже два десятка лет, как мы ведем с читателями беседы, и я надеюсь, что несколько приведенных ниже строк не помешают нашей старинной дружбе, а лишь укрепят ее.
С тех пор как мы обменялись последними репликами, произошла революция. Я предсказал ее еще в 1832 году, изложил ее причины, следил за ее ходом, описал ее вплоть до свершения; более того, еще шестнадцать лет назад я поведал о том, что сделаю (и сделал это восемь месяцев назад).
Позвольте мне привести здесь последние строки пророческого эпилога, завершающего мою книгу «Галлия и Франция».
«Вот пучина, которая очень скоро поглотит наше правительство. Маяк, которым мы освещаем ему путь, осветит лишь его крушение. Ибо даже захоти оно изменить курс, оно не в силах будет это сделать; ему не совладать ни со стремительным течением, ни с порывистым ветром. И только в час гибели, когда наши человеческие чувства возьмут верх над гражданским стоицизмом, раздастся голос: „Долой королевскую власть, но да спасет Бог короля!“ И это будет мой голос».
Разве не сдержал я свое обещание и разве единственный во Франции голос, который сказал «прощай» августейшей дружбе в момент свержения династии, не прозвучал достаточно громко, чтобы быть услышанным?
Итак, революция, которую мы предвидели и о которой объявили, не застала нас врасплох. Мы приветствовали ее как нечто предопределенное и неизбежное; мы не надеялись, что она будет лучше, мы боялись, что она будет хуже. Мы двадцать лет изучали прошлое народов, и нам известно, что такое революция.
Не будем говорить ни о тех, кто ее вершил, ни о тех, кто ею воспользовался. Любая буря мутит воду. Землетрясение выносит наружу то, что таилось в недрах. Затем, следуя законам равновесия, каждая молекула возвращается на свое место.
Земля становится тверже, вода – прозрачнее, а ненадолго потемневшее небо вскоре отражает в бескрайнем озере россыпь золотых звезд.
Пусть наши читатели удостоверятся, что мы остались такими, как были до 24 февраля [2], разве что прорезалась лишняя складка на лбу и появился рубец на сердце – вот и все изменения, происшедшие с нами за последние страшные восемь месяцев. Мы так же любим тех, кого любили, уже не остерегаемся тех, кого остерегались, ну а тех, кого презирали, презираем пуще прежнего.
Итак, ничего не изменилось ни в нашем творчестве, ни в нас самих. Возможно, что и в творчестве стало одной складкой и одним рубцом больше. Только и всего.
На сегодняшний день мы написали почти четыреста томов – исследовали разные века, извлекали на свет череду персонажей, потрясенных тем, что вновь смогли обрести жизнь в великий день издания книги.
И теперь мы призываем к ответу этот мир, полный призраков: приносили ли мы когда-либо в жертву своему времени его преступления, пороки или добродетели? Нет – о королях, вельможах, о народе мы всегда говорили лишь правду или то, что таковой считали; и если бы мертвые могли отстаивать свои права, как это доступно живым, то им не в чем было бы нас обвинить – мы не причинили вреда ни тем ни другим.
Есть сердца, для которых любое несчастье свято, любое крушение достойно уважения; благочестие заставит их склонить голову и перед могилой, и перед поверженной короной, лишается ли человек жизни или трона.
Когда мы написали заголовок на первой странице нашей книги, скажем прямо, его нам продиктовал отнюдь не свободный выбор, а то, что пришло его время, настал его черед; хронология неумолима; после 1774 года должен был наступить 1784-й; после «Жозефа Бальзамо» – «Ожерелье королевы».
Но пусть будет спокойна самая щепетильная совесть: именно потому, что сегодня историк вправе говорить все, он может стать цензором поэта. Здесь ничего не сказано рискованного о королеве-женщине, ничего сомнительного о королеве-мученице. Правда то, что мы живописуем человеческие слабости или королевское тщеславие – но лишь как те художники-идеалисты, которые умеют найти прекрасную сторону во всяком сходстве. Как творец по имени Ангел [3], увидевший в своей любовнице святую Мадонну, мы печально, беспристрастно и торжественно проследуем по пути поэтических мечтаний между гнусными памфлетами и чрезмерной хвалой. Та, чью голову со смертельной бледностью на лице палач показал народу, обрела право не краснеть перед потомством.
Александр Дюма
29 ноября 1848
Пролог
1
Старый дворянин и старый дворецкий
В один из первых дней апреля 1784 года, примерно в три часа с четвертью пополудни, наш старый знакомец, убеленный сединами маршал де Ришелье, подправил брови ароматической краской, оттолкнул рукою зеркало, которое держал камердинер, сменивший, но не полностью заменивший преданного Рафте, покачал головой и со свойственным одному ему выражением промолвил:
– Ну что ж, теперь недурно.
Он встал с кресла и залихватским щелчком стряхнул пылинки белой пудры, просыпавшиеся с парика на короткие штаны из небесно-голубого бархата.
Затем, оттягивая носок и плавно скользя по паркету, он проделал несколько кругов по туалетной комнате и позвал:
– Дворецкого ко мне!
Минут через пять появился дворецкий, одетый в парадную ливрею.
Маршал принял серьезный, соответствующий обстоятельствам вид и осведомился:
– Надеюсь, вы подготовились к обеду как следует?
– Разумеется, ваша светлость.
– Я ведь передал вам список приглашенных, не так ли?
– И я в точности запомнил их число, ваша светлость. Девять персон, правильно?
– Персоны персонам рознь, сударь.
– Да, ваша светлость, но…
Маршал прервал дворецкого нетерпеливым жестом – едва заметным и вместе с тем величественным:
– «Но» – это не ответ, сударь мой! И, кроме того, всякий раз, когда я слышу слово «но» – а за восемьдесят восемь лет я уже слышал его не единожды, – мне, как это ни прискорбно, становится ясно, что далее последует какая-нибудь глупость.