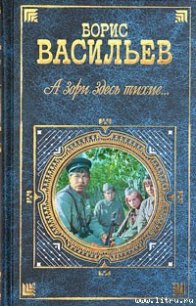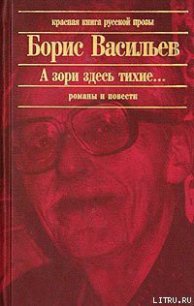А зори здесь тихие… (сборник) - Васильев Борис Львович
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 147
Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом, и сложением.
Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.
При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот штык против него.
Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.
Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.
Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.
И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-нибудь лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.
Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом подвальной стены, в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно как в могиле и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.
Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.
Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.
– Пронесло гадов?
Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме:
– Кто?
– А ты-то кто?
– Свой!
– Ну а я еще больше свой. Сколько вас?
– Один.
– Последний?
– Не считал. Да где ты тут?
– Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая…
Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок черной, с густой проседью, бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.
– Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!.. – Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил: – Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?
– Стерпел, – сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый. – Значит, один ты?
– Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом – четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.
– Кто будешь?
– Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?
– Для немцев – правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.
– Какого полка?
– В списках не значился, – усмехнулся Плужников. – Что, моя очередь рассказывать?
– Выходит, твоя.
Плужников рассказал о себе – без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.
– Теперь можно и познакомиться, – сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. – Старшина Семишный. Из Могилева.
Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега.
– Ты зарядку делай, лейтенант, – сказал Семишный на следующее утро. – Нам с тобой распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.
Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнулся, разводил руками, пока не начинал задыхаться.
– Да, похоже, что одни мы с тобой, – вздохнул Плужников. – Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его – война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы.
– Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? – усмехнулся старшина. – Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а – присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. – Он вдруг посуровел и кончил жестко, почти зло: – Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца – возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю: такой у меня закон.
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 147
Похожие книги на "А зори здесь тихие… (сборник)", Васильев Борис Львович
Васильев Борис Львович читать все книги автора по порядку
Васильев Борис Львович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.