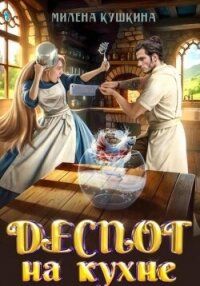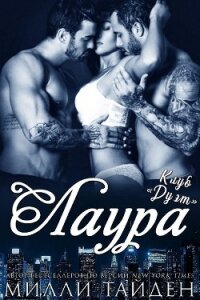Элизабет фон Арним
Искупление
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Глава 1
Милли неподвижно застыла в кресле. Ее круглое бледное лицо не выражало ничего. Взгляд не отрывался от вялых, будто вовсе не принадлежавших ей пухлых рук, которые покоились на обтянутых черным коленях. Так она и сидела, безмолвная, и смотрела на руки, с тех пор как это случилось.
– Приведите ее в чувство, – сказал врач, когда опечаленные родственники Эрнеста обратили его внимание на состояние Милли. Но напрасны были усилия кучки невесток: она оставалась безмолвной, недвижимой и все так же тупо смотрела в одну точку.
– Ей бы поплакать, – говорили друг другу Ботты. – Хорошенько выплакаться – самое милое дело, это всегда помогает.
Но Милли не плакала, ничего не говорила, разве что тихонько шептала своим нежным голоском всякий раз, когда какой-нибудь сочувствующий или соболезнующий родственник гладил ее по плечу или касался склоненной головы:
– Как вы добры…
Да и кто бы не был добр к бедняжке Милли в ее горе? Добры были не только Ботты, но и весь Титфорд. В этом солидном южном предместье Лондона высоко ценили Боттов, процветавших, успешных в финансовых делах и постоянно преумножавших свое богатство. Они служили оплотом местного общества: вносили пожертвования, председательствовали, произносили речи, разрезали ленточки. В Титфорде было множество Боттов, и каждого из них окружали здесь почетом. Когда им случалось вступать в брак, что они проделывали неукоснительно, достигнув надлежащего возраста, или когда у них рождались дети, что исполнялось так же неукоснительно, стоило им жениться (если не считать Эрнеста, который остался бездетным), Титфорд искренне ликовал; когда же они умирали, что происходило с ними лишь по достижении зрелости и никак не раньше (опять же не считая Эрнеста, чья жизнь оборвалась в дорожной катастрофе), Титфорд искренне скорбел и неподдельно сочувствовал выжившему супругу – как правило, вдове, ибо по странному закону природы утлое поначалу суденышко в итоге оказывалось на удивление крепким.
В этом случае сочувствие было особенно живым, поскольку Милли всегда слыла общей любимицей. Давным-давно Титфорд решил, что миссис Ботт обладает манерами истинной леди, и проникся к ней любовью. Почти двадцать пять лет прошло с тех пор, как бедный Эрнест Ботт привез в особняк из красного кирпича на Мандевилл-Парк-роуд свою молодую жену. Тогда она была совсем еще девочкой, маленькой, худенькой, почти ребенком, и выглядела до нелепости юной рядом с мужчиной едва ли не средних лет, но с самого начала держалась, как и надлежало даме ее положения, и никогда не забывала о своем статусе, невзирая на выходку ее сестры в этом самом доме всего три месяца спустя.
Шли годы, без бурь и невзгод, уютные безупречные годы; сестра больше не появлялась, и о ней забыли, разве что в глубине сердца Ботты еще хранили воспоминания (они не так-то просто забывали бесчестье), и все мужчины в этом многочисленном семействе считали, что Эрнесту на редкость повезло с женой. Миссис Ботт уже давно не та худенькая девочка. Прочное благополучие, которое сумел обеспечить ей Эрнест, дало свои плоды. Теперь это была дородная сорокапятилетняя дама, низенькая и рыхлая, как пуховая подушка, белокожая, с кроткими глазами, с ямочками на пухлых руках, где у других обычно выступают костяшки, с гладко зачесанными послушными волосами цвета респектабельности на аккуратной голове. Вся ее жизнь за исключением той единственной скандальной истории с сестрой – а кто в ответе за поступки родственников? – была безукоризненной. Сплетникам нечего было о ней сказать, критика обходила ее стороной. Милли была радостью и гордостью семьи и всего Титфорда; без причуд, с хорошими манерами, она не отличалась излишней разговорчивостью, никогда не вела умных бесед, но всегда готова была услужить, сделать приятное. Весьма упитанная, нарядно одетая, с приветливой улыбкой на губах, она аккуратно отдавала визиты: поначалу в изящном экипаже, затем в автомобиле. Званые обеды она посещала в бархате, в церковь ходила в мехах или в перьях и раз в месяц принимала у себя. Тепло встречая гостей в красивой гостиной, Милли внимательно слушала, никогда никому не возражала, никогда не умничала, ничего не доказывала, разве что могла мягко посоветовать, но тотчас с улыбкой спешила отказаться от своих слов, если ей казалось, что совет вызвал хоть малейшее неудовольствие.
Вот это женщина! Каким чудесным местом был бы наш мир, если бы все жены больше походили на Милли, частенько думали Ботты-мужчины (ибо произносить подобные мысли вслух не годилось), когда у них случались неприятности с собственными супругами. Милли не доставила Эрнесту и малейшего неудобства, не омрачила ему жизнь ни на день, ни даже на час. Милая малышка Милли, славная, покладистая! За такую женщину любой что угодно отдаст. К тому же на нее приятно посмотреть: такая она сдобная, домашняя – всем женам в пример. С тощей женой нечего и надеяться на удобство и уют: это все равно что заказать жесткий матрас и ждать, когда спать на нем будет удобно. У костлявой жены кости впиваются в характер, думали те удрученные братья Ботт, чьи жены отличались худобой, а с недавних пор и сварливым нравом. Но сокрушались они втайне. На людях же каждый, как и надлежит мужу, представал любящим и довольным жизнью.
И вот Милли стала вдовой, причем богатой, но ни один из братьев к тому времени не овдовел, чтобы жениться на ней и сохранить ее в семье вместе с деньгами бедного старины Эрнеста. Ее тотчас же умыкнут, едва пройдет год, иначе и быть не может. Какой здравомыслящий мужчина не пожелал бы похитить Милли, даже будь она бедна; не мечтал бы до конца своих дней покоиться на этой нежной, мягкой, пышной, как пуховая подушка, груди и навеки избавиться от раздоров и ругани?
Невестки, размышляя о кругленьком состоянии Эрнеста, возражали: «Зачем ей замуж теперь, когда и так живет припеваючи и может делать все, что вздумается?» Одна из них, обладавшая бурным темпераментом, чем очень гордилась, и постоянно твердившая мужу, когда тот ей прекословил, что он должен на коленях благодарить Господа, ибо женат на настоящей женщине, а не на вялой курице, заметила: «Не похоже, что в ней есть хоть какой-то задор. Бедняжка Милли не из тех женщин, которым нужен мужчина».
А почтенных лет дама, в чьем доме велись эти разговоры (старейшая из всех, подлинная миссис Ботт, прародительница семейства, бабушка многочисленных внуков, успевшая обзавестись изрядным числом правнуков и даже готовившаяся стать прапрабабушкой; та, что жила на вершине Денмарк-Хилл, дабы, как она часто говорила, всегда быть в распоряжении всех своих дорогих деток на случай, если она им понадобится, но не настолько близко, чтобы им докучать), задумалась, погрузившись в воспоминания, и лишь медленно покачала головой в ответ на слова жены Джорджа, которая, как ей иногда казалось, больше походила на цыганку, чем на леди, однако предпочла промолчать, поскольку давным-давно усвоила, что в семейной жизни чем чаще воздерживаешься от замечаний, тем лучше. Старой миссис Ботт вспомнилась странная сцена, разыгравшаяся в этой самой комнате десять лет назад, когда Милли, всегда такая тихая и благонравная, подошла к окну теплым весенним утром (да-да, определенно дело было весной при теплой погоде: старуха ясно помнила, что французское окно было распахнуто и садовник подстригал лужайку, которая превратилась вдруг в покрытое ромашками поле). Какое-то время Милли молча стояла у окна, глядя на пейзаж, затем резко повернулась. В ней произошла какая-то странная перемена: теперь она казалась другой, непохожей на себя, вдобавок ее словно бросило в жар (бедное дитя, после такой-то прогулки!). Она сказала, что чувствует, будто скоро, возможно, уже не выдержит – настолько ей все опротивело.
– Всё, всё! – выкрикнула она громко, словно не могла больше сдерживаться, и нелепым жестом вскинула руки к багровому от долгого пути в гору по жаре лицу, потом вдруг прибавила со слезами на глазах: – Я больше не могу… Я дошла до края…