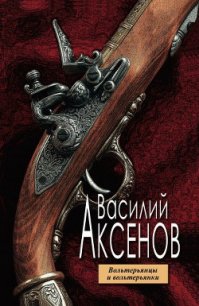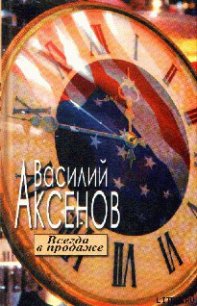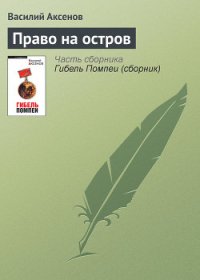Зеница ока. Вместо мемуаров - Аксёнов Василий Иванович
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 94
— В конце семидесятых? Поэтому, наверное, и по экранам особенно не пошел?
— Его просто положили на полку. Он десять лет лежал, а потом его разрешили. Вообще-то, я бы не сказал, что мне в кино особо везет. В Голливуде долго готовились к съемкам «Острова Крым», но тоже что-то не сложилось.
— Кончится лето, и вы продолжите профессорствовать в Вашингтоне?
— Я последний год работаю. Решил уходить из университета. Честно говоря, надоело. Все-таки я уже двадцать лет отдал этому делу. Сам процесс урока мне не обременителен. Разговаривать со студентами, что-то им показывать, рассказывать — это all right, кроме этого, есть еще масса другого: участие в жизни университета, чтение курсовых работ, мучительная процедура выставления отметок…
— А что это за институция — американское профессорство русского писателя? Евтушенко преподает, Толстая, Лев Лосев, Коротич. Это как Пнин у Набокова?
— «Пнин» — замечательная книга. Некоторый гротеск, конечно, но, в общем, похоже. Маленькие университетские городки, кампусы — это не самая плохая часть американской жизни. Может, даже лучшая. А писатель на кампусе университета — самое нормальное явление. Большинство писателей именно там подрабатывают. И потом, приятно находиться среди молодежи, когда возникают каждый семестр все новые и новые группы.
— Это не так, как в Литинституте — «курс мастера Аксенова» в течение всех пяти лет?
— Нет, это не так, как у нас, когда группа идет через все курсы. Группы возникают спонтанно и меняются каждый семестр. Перед началом семестра студент сам выбирает, что он будет посещать. И возникает группа людей, которые в большинстве случаев совершенно друг друга не знают. В университете двадцать пять тысяч человек, не знакомых друг с другом. Они собираются в моем классе, и когда я спрашиваю: «А почему Эмили не пришла? Кто-нибудь знает Эмили лично?» — оказывается, что никто не знает. Все поглядывают вокруг с удивлением: кто это — Эмили? И я понял, что моя задача — это еще и перезнакомить, чтобы они контактировали друг с другом.
— Заменить западную отстраненность русской душевностью?
— Хотя бы отчасти. Я сначала не понимал, почему они такие застенчивые. Меня, что ли, стесняются? Почему не решаются высказываться, задавать вопросы? А они, оказывается, друг друга побаиваются. И я начинаю потихоньку разрушать эту стенку между ними. Когда удается, это дает удовлетворение.
— Так что, университет — это двадцать пять тысяч замкнутых монад?
— Ну да, каждый сам по себе. Кроме того, там национальные землячества. Там ведь масса людей со всего мира. Арабы держатся вместе, персы отдельно, корейцы. «А русских-то у тебя много?» — спрашиваем друг друга. «Русские» — это на самом деле американцы, туземцы.
— А настоящие-то русские бывают?
— Сейчас все чаще и чаще появляются.
— Дети ваших читателей?
— Да, иногда приводят родителей. Когда говорят им: «Наш профессор — писатель Аксенов», — те начинают ахать: «Боже, боже!» И девочка подходит: «Можно, я маму приведу, она так мечтает на вас посмотреть?» — «Конечно, пожалуйста». Приходит мама. Или папа.
— Вот это и есть пресловутый глобализм, когда люди движутся по всему свету, меняя страны и работу?
— Да, по всему миру. У нас там есть интернетовский сайт, где русские ребята обмениваются всякой информацией по поводу возможной работы. Я часто попадаю на него и смотрю, как они общаются. «Привет». — «Привет». — «Есть работа на Сейшелах. Перевозка мебели за счет фирмы. Условия такие-то». Сообщают друг другу о приезде каких-нибудь рок-групп из метрополии. «Аквариум» или «Машина времени» появляются там довольно часто.
— Интернетом активно пользуетесь?
— Нет, стараюсь по минимуму пользоваться этими делами. В основном использую как электронную почту. Или если нужно найти какую-то информацию.
— Но печатаете на компьютере?
— Нет, сначала пишу от руки. Потом ввожу текст в компьютер. Вот это введение в компьютер — это второй вариант. А первый — спонтанно, от руки.
— Новым романом «Кесарево свечение» вы открыли для себя новый век в литературе?
— Да, для меня это принципиально новаторская вещь. Она отсекает прежний период моей творческой жизни. Я перехожу в иную плоскость самовыражения. Возможно, недаром я сейчас собираюсь от современности уходить в историю.
— Но «Кесаревым свечением» вы как раз уходите в будущее, он заканчивается…
— …в 2065 году. Герою сто лет. В романе он возникает как юноша, а в конце ему — век.
— Какие книжки повезете отсюда?
— Свои. Те, которые вышли. Предварительный тираж. Несколько десятков экземпляров. Десять тысяч тиража появятся в августе. Я много с собой не тащу. Из-за этого моя библиотека разделилась на две части — что-то здесь, что-то там. Так же, как гардероб: часть рубашек в Москве, часть в Вашингтоне. Иногда начинаешь искать какую-то книгу, а потом вспоминаешь, что она в Москве. Нормально.
«В мемуарах работает ложная память…» (2004)
— Вы ведь долго отказывались от автобиографической книги?
— Я и сейчас отказываюсь от прямого мемуара. Почему-то у меня не лежит душа к жанру профессионального воспоминания. В принципе я многое использую в своей беллетристике. Но все, что берется из жизни, как-то перелопачивается. Прямой мемуар будет пренебрежением к уже выработанному стилю работы. Скажем, книга «Десятилетие клеветы» — она отчасти мемуарная, отчасти нет. Или «Американская кириллица», вышедшая в издательстве НЛО, где рассказывается о том, как Америка создавала материал для моих романов. Она открывается новым текстом, который называется «Адмирал империи». Это мемуарный рассказ об отставном американском адмирале, с которым мы дружили. Начинается с военно-морских похорон в самом сердце Америки. А потом рассказ о его жизни. Во время войны он работал в Москве военно-морским атташе и занимался ленд-лизом. Страшно интересные материалы, в том числе и из его книги «Comissarand caviar», что я перевел на русский язык как «Икрометные комиссары». Он был очень забавный человек, жизнелюб и фантазер.
— А всю свою жизнь запустить в таком беллетризованном карнавале?
— Боюсь наврать с три короба. Люди же всему верят, а в мемуарах включается ложная память. В принципе она и есть творческая память. Когда-то Мандельштам написал, как ему приснилось, что маленьким мальчиком он вошел в большой зал филармонии и включил там весь свет. Все вспыхнуло. И он как-то забыл, что это сон, и всерьез верил, что так и было. А этого не было.
— Вы боитесь к кому-то оказаться несправедливым?
— Да нет, я боюсь наворотить с три короба, а все поверят, что абсолютно так и было на самом деле. Блестящий пример такого мемуара — «Алмазный мой венец» Катаева. Он изменил имена, придумал прозвища, и в художественном смысле получилось точнее и ярче, чем были бы сами по себе воспоминания.
— Вот и о самом Катаеве написали бы.
— В том же «Десятилетии клеветы» есть статья о нем к юбилею. И там есть точные моменты, связанные с Катаевым, из того, что я видел.
— Если я спрошу о важных для вас людях, о которых вы не писали, кто оказался бы в этом списке?
— Я никогда не буду писать о Бродском, хотя мне есть что сказать о нем. Но я не хочу трогать образ этого человека. Во всяком случае пока.
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 94
Похожие книги на "Зеница ока. Вместо мемуаров", Аксёнов Василий Иванович
Аксёнов Василий Иванович читать все книги автора по порядку
Аксёнов Василий Иванович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.