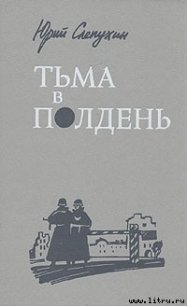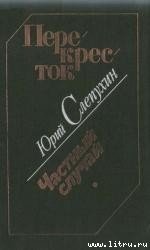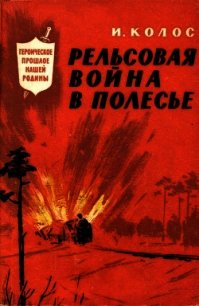Ничего кроме надежды - Слепухин Юрий Григорьевич
Ознакомительная версия. Доступно 36 страниц из 176
Он опять подошел к окну – колонна медленно вытягивалась за ворота. Когда знакомые из эмигрантской среды спрашивали его о том, как он себя чувствовал в Совдепии, не было ли того же ощущения собственной чужеродности, ненужности – всего того, что эмигрант постоянно ощущает в стране своего вынужденного проживания, – Болховитинов кривил душой, заверяя в обратном. Самому себе не хотелось признаться, но было ощущение чужеродности, было, особенно с простыми советскими людьми – такими вот, как эти. И тогда, как и теперь, ему иногда казалось, что дело вовсе не в его службе у немцев, а просто в том, что он – не свой, пришлый, из беляков. Эта стойкая неприязнь к бывшим противникам по гражданской войне выглядела дико, особенно если вспомнить, что противники-то войну проиграли. Останься тогда победа за белым движением, окажись большевики жертвами террора победителей (а террор был бы не хуже красного, достаточно вспомнить Шкуро, Семенова и им подобных) – вполне понятно, что симпатии народа были бы сегодня на стороне жертв: за нас, мол, боролись, за счастье простых людей. Но ведь победа досталась красным, а к побежденному врагу русские люди всегда были скорее сострадательны...
Да, признаваться в этом не хотелось, даже самому себе, но идеализированные представления о России не совпали с тем, что довелось увидеть воочию. Откуда взялась эта идеализация – выросла из унаследованной и потому наивной ностальгии? Ею, впрочем, грешили эмигранты и старшего поколения, всякого навидавшиеся за годы российской смуты. Отец, скажем, вообще не был склонен к идиллическим представлениям о чем бы то ни было и часто подтрунивал над дореволюционными мужиковствующими интеллигентами: пятьдесят лет поклонялись лаптю, а потом первыми же стали вопить о «пришествии хама» – как только этим вожделенным лаптем получили пинка под неудобосказуемое место. И все-таки Россия чем дальше, тем явственнее становилась для полковника Болховитинова этаким градом Китежем, канувшим в большевистский омут, но предназначенным рано или поздно снова вознестись во всей славе...
В одном из своих писем – за год до смерти – он по поводу чистки высшего советского командования высказывал убежденность в том, что дыма без огня не бывает, и у Тухачевского, скорее всего, действительно были какие-то далеко идущие планы; помнится, еще в его императорского величества лейб-гвардии Семеновском полку будущий маршал (тогда в чине поручика) обращал на себя внимание двумя качествами – честолюбием и незаурядными способностями. Опасное сочетание! Вполне поэтому возможно, что ошеломительная карьера, сделанная им в Красной Армии, могла позднее убедить его в собственной годности на роль нового Бонапарта. «Сталин, – писал отец (это письмо было единственным сохранившимся у Кирилла), – доказал свою государственную мудрость уже тем, что отправил в изгнание мерзавца Троцкого, и трудно предположить, что в столь опасной международной обстановке он рискнул бы обезглавить армию без достаточных на то оснований. Если же сопоставить эту жестокую, но несомненно чем-то оправданную меру с предварившей ее «ликвидацией» зиновьевых, пятаковых и прочей нечисти из сонма ближайших подручных г-на Ульянова, то я думаю, что общая картина дает основание смотреть в будущее с оптимизмом. Россия несомненно вступает в полосу политического и морального оздоровления, хотя процесс этот будет долгим и болезненным...»
Да, чего-то отец не понимал. Увидеть признаки «оздоровления» в грызне среди кремлевских главарей – для этого, конечно, надо быть эмигрантом, напрочь утратившим способность трезво оценивать происходящее дома. Впрочем, тогда многие (особенно после книги Фейхтвангера) восприняли события в Москве вполне одобрительно – одни радовались тому, что Сталин искореняет измену и крепит государственную мощь, другие – тому, что он расправляется с прежними вождями партии. Отец не случайно ведь назвал имена, особенно ненавистные для каждого участника белого движения: Зиновьев, красный диктатор Петрограда, прославился массовыми казнями офицеров, сдавшихся после поражения Юденича, а Пятаков осенью 1920 года явился в Крым как особоуполномоченный ВЧК – этакий комиссар Конвента, Фуше в Лионе, – с заданием поголовно ликвидировать всех врангелевцев, которые не эвакуировались из Севастополя, поверив объявленной амнистии.
Так что, если вспомнить все это (а можно ли забыть?), то московские казни 1936 и 1937 годов можно рассматривать как запоздалое возмездие: кровь за кровь. Но их-то судили за другое, и судили неправедным судом, это было очевидно. В Энске он специально интересовался мнением советских людей о тех процессах: у молодежи виновность «врагов народа» сомнений не вызывала, люди постарше считали, что в большинстве случаев обвинения были ложными, а признания подсудимых получили под каким-то гипнозом, если не под пыткой. Не очень-то все это укладывалось в схему утешительной концепции «политического и морального оздоровления».
Отец, конечно, в понятие оздоровления вкладывал свой, сугубо военный смысл: если Сталин укрепляет обороноспособность державы – это уже хорошо. Главное, считал полковник Болховитинов, чтобы страна была неуязвима извне, а все остальное – чепуха, рано или поздно устроится, приладится, войдет в норму.
В конечном счете, возможно, так оно и есть. Но только в самом-самом конечном, только издали – с такой высоты, когда эта «чепуха», эти «мелочи» уже неразличимы. А ведь повседневная жизнь складывается из «мелочей», никуда от них не денешься, и «мелочи» эти определяют слишком многое (в том числе и сознание, тут марксисты не так уж и не правы, вероятно). Не этим ли воздействием мелочей и создан новый характер русского человека?
Вопрос, конечно, насколько он нов. Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь возможность сравнить, а сегодня это уже невозможно, отец еще мог бы сравнивать по памяти, а ему самому уже никакие сравнения недоступны – кроме самых общих. Его, скажем, поражала там какая-то странная общественная инертность людей. Вот хотя бы тот же террор: никто не отрицал, что да, действительно, явление было массовым, люди исчезали каждую ночь, никто не мог быть уверенным, что сегодня не придут за ним самим; но рассказывалось об этом с каким-то странным безразличием, почти уже умиротворением – пронесло, слава Богу, чего теперь вспоминать... Однажды он спросил Таню, не затронуло ли «дело Тухачевского» ее дядюшку, она почти весело ответила, что нет, совсем не затронуло, хотя многих соседей тогда посадили – почти на каждой площадке были опечатанные квартиры. А вопрос, что по поводу этих казней говорил сам дядюшка – не мог же он всерьез считать, что все казненные офицеры были германскими или японскими шпионами, – Таню очень удивил: они с дядей никогда об этом не говорили, с чего бы он стал обсуждать с ней такие дела!
Ознакомительная версия. Доступно 36 страниц из 176
Похожие книги на "Ничего кроме надежды", Слепухин Юрий Григорьевич
Слепухин Юрий Григорьевич читать все книги автора по порядку
Слепухин Юрий Григорьевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.