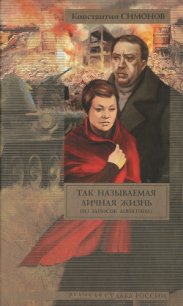Разные дни войны (Дневник писателя) - Симонов Константин Михайлович
Ознакомительная версия. Доступно 82 страниц из 408
Как я уже сказал, следов ни одного из двух Даниловых так и не нашел. Но следы человека с более редкими именем или фамилией, того молодцеватого сапера-казаха, с которым мы разговаривали в саперном батальоне, Айтмагомбета Арешева, - эти следы я все-таки обнаружили. К сожалению, следы эти оказались печальными. В картотеке, которую мне после долгих розысков принесли в архиве, стояло: "Западно-Казахстанская область, Урмитский район. Казах, учащийся, холост, детей нет, военное образование - школа сержантов, член ВКП(б), награжден медалью "За отвагу", и последняя запись: "Умер от ран. 11/VI-42, полуостров Рыбачий".
Прочитав это, я невольно подумал, что через год после того как мы с ним виделись, он умер от ран, наверно, именно там, в подземном госпитале на Рыбачьем, возле которого рядышком стоял тогда их саперный батальон. И, обратившись к своему фронтовому блокноту, как-то заново, с горечью прочел последние строчки тогдашней моей записи разговора с этим человеком, про которого в архивной карточке было сказано: казах, учащийся холост... Вот эти строчки: "...Полюбил в горах ходить. Как встали на лыжах так и свою тоску об лошади забывали. Когда война кончится, поеду домой и женюсь, и жену сюда привезу, непременно на север..."
Мне остается сказать о судьбах еще трех людей, встреченных мною на Рыбачьем, - трех сослуживцев по 104-му тяжелому артиллерийскому полку.
Его командир Ефим Самсонович Рыклис, которому к началу войны было тридцать шесть лет, девятнадцать из них уже успел прослужить в артиллерии, за вычетом тех двух лет, на которые он выбывал из армии при обстоятельствах, которые мы кратко именуем сейчас периодом необоснованных репрессий. Вернувшись в 1939 году на ту же должность командира дивизиона, которую ему пришлось покинуть в 1937 году, и восстановившись в партии, он участвовал в финской войне и за три месяца до начала Великой Отечественной был назначен командиром полка на Рыбачьем. И в том же сорок первом году, осенью, там, на Рыбачьем, получил свой первый из трех орденов Красного Знамени. На севере воевал до середины 1943 года, а потом всю остальную войну, командуя артиллерией 27-го стрелкового корпуса, дошел до Виттенберга на Эльбе, отделавшись за всю войну только двумя легкими ранениями и дослужившись до полковничьего звания.
Подчиненный Рыклиса, старший лейтенант Яков Дмитриевич Скробов, командовавший там, на Рыбачьем, в его полку одним из дивизионов, тоже закончил войну в звании полковника. Проделав во время войны блистательный путь от командира дивизиона до начальника штаба артиллерии Первого Украинского фронта, Скробов по воле военных судеб, среди многих артиллерийских начальников, которые находились у него в подчинении, имел и своего бывшего командира полка, чей корпус входил в состав Первого Украинского фронта.
Лет десять назад мне довелось беседовать о последних наступательных операциях этого фронта с его командующим Иваном Степановичем Коневым, который при всей его скудости на похвалы отозвался мне о Скробове как еще об очень молодом в то время, но исключительно способном артиллеристе. От командира дивизиона до начальника штаба артиллерии огромного фронта, в который входило больше десяти армий, дистанция огромного размера. Да и должность эта, разумеется, генеральская. Однако Скробов исполнял ее, находясь в полковничьем звании. До большего по молодости лет он в годы войны не дослужился; дослужился уже после войны до генерал-лейтенанта артиллерии и в свой черед и срок ушел в отставку, написав мне об этом кратко и без горечи, как о должном и необходимом: "...Ушел в отставку. Возраст и здоровье не позволяют тянуть в полную силу служебную лямку, а раз так, надо уступать место тем, кто ее может тянуть, то есть молодым. Завершив военную службу, могу сказать, что я доволен своей судьбой, судьбой военного человека, служившего Отечеству в Вооруженных Силах".
Командуя артиллерией далекого военного округа, было недосуг добираться до места своих первых боев, чуть ли не на другой конец света. Но, выйдя в отставку, Скробов не замедлил съездить на Рыбачий и Средний, а съездив, написал "Заметки минувшем", копию которых прислал мне для сведения.
И надо сказать, что эти заметки неожиданно поразили меня своим тоном, казалось бы, никак не свойственным этому суровому и молчаливому человеку. Должно быть, первые впечатления войны у каждого по-своему врезаются в душу с особенною силою.
Вот что писал Скробов о своих впечатлениях от увиденного им на Рыбачьем через тридцать с лишним лет после того, как он воевал на этой суровой земле: "...Время и природа оставили в полной сохранности траншеи, дзоты и доты и другие оборонительные сооружения, из которых наша пехота отбивала атаки врага. Целы наблюдательные пункты и огневые позиции артиллерии, с которых она обрушивала свой огонь. Сохранились командные пункты частей. Словом, сохранилось все, что было сделано разумом и руками рыбачинцев во имя неприступности обороны, потому что это "все" сделано из камня и выдолблено в камне, и, право же, кажется, что обитатели этих оборонительных сооружений оставили их совсем недавно. Только обвалились перекрытия блиндажей и землянок, не выстояло дерево, дерево - не камень, недолговечно, сгнило. Сохранились и следы происходившей здесь тяжелой борьбы. Время не зарубцевало раны изрубленного войной камня. На Муста-Тунтури, обтесанной металлом войны, ничего не растет, даже нет лишайника. И долго ничего не вырастет, потому что не на чем расти. Голый камень не родит. В безмолвии лежат участки каменистой поверхности Рыбачьего, исковерканные разрывами авиабомб и снарядов. Много воронок, больших и малых. Полярные ветры давно выветрили из них песок, разметанный взрывами, но белая, как мраморная крошка, взрывная каменистая россыпь и стальные осколки сохранились. Вдоль траншей и в самих траншеях вокруг НП, огневых точек и в других местах, где сидели рыбачинцы, как щебенка, лежат осколки, пули, стреляные гильзы, а кое-где ручные гранаты и патроны. Осколки уже покрылись толстой коркой ржавчины, а пули и гильзы позеленели, но лежат там, куда их бросила война. Могилы погибших некогда были обложены диким полярным камнем и лишайником. На них были установлены дощатые пирамидки с надписями. Пирамидки подгнили и упали, надписи уничтожила непогода и время. Находясь на одном из таких кладбищ у подножия Муста-Тунтури, я вспомнил бои за Одером в 1945 году и престарелого генерала-артиллериста, выговаривавшего молодому командиру дивизии полковнику за то, что в полосе его дивизии генерал обнаружил: незахороненный труп убитого лейтенанта, лежавший у дороги, по которой шли войска. Помнится, генерал говорил: "Своевременно и с почестью похоронить павших в бою - это немаловажный: моральный фактор для живых. Что подумают бойцы, проходящие и проезжающие мимо тела убитого лейтенанта, лежащего в грязной жиже? Только одно - может, и мое тело будет вот так валяться". Генерал был прав. Ну а содержание в надлежащем порядке кладбищ и могил погибших на войне - это не только моральный, но и воспитательный фактор. Видимо, многие десятилетия, если не века, крепкий камень Рыбачьего будет хранить следы ушедшей в историю войны. В этом отношении Рыбачий, по существу, является местом уникальным. Напрашивается вывод: не следует ли это место сделать мемориально-заповедной зоной, сохранив в ней все то, что оставила после себя проходившая здесь война. Мне кажется, следует..."
Ознакомительная версия. Доступно 82 страниц из 408
Похожие книги на "Разные дни войны (Дневник писателя)", Симонов Константин Михайлович
Симонов Константин Михайлович читать все книги автора по порядку
Симонов Константин Михайлович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.