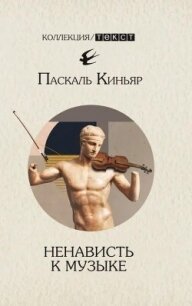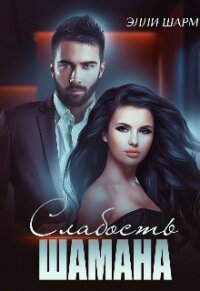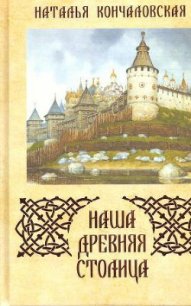Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя - Денель Яцек
Когда он умер, меня не оказалось дома; я возвращался (не важно откуда) во втором часу ночи и еще на пороге понял: произошло то, что висело в воздухе. Донья Леокадия – странно, что именно она, мне это только сейчас пришло в голову – подошла ко мне первая и сказала, хлюпая носом: «Умер, будто заснул… даже доктор… удивился, сколько в нем было силы… говорят, не страдал… – Тут ее голос задрожал. – Но это неправда… неправда». И отошла, как-то так странно, спотыкаясь на ровном полу.
XXII
Письмо пришло в первую неделю апреля, а может, и в начале второй – но я чувствовал: он еще жив. Странные это были денечки. Я ходил по Мадриду в предчувствии огромной свободы, что на могучих крыльях неслась ко мне со стороны Пиренеев, я ждал ее, как когда-то afrancesados ждали Наполеона с его конституцией, как потом чернь ждала El Deseado [90] – долгожданного монарха, возвращающегося из изгнания и оказавшегося задним числом кретином и деспотом, – и как позднее скудеющие ряды его сторонников ждали «ста тысяч сыновей святого Людовика» (трудно придумать более глупое название для французской солдатни); так и я во время своих прогулок обращал лицо в сторону Пиренеев, приблизительно, конечно, и старался почувствовать дуновение, несущее с собой воздух свободы. А в то же самое время занимался всякими необходимыми делами: копия метрики, ее удостоверение королевским нотариусом, согласие на поездку французского генерального консула. Я даже не пользовался экипажем, предпочитая ходить пешком; стояла весна, в природе все прилипало друг к другу от пульсирующих в ней соков, а я на сорок третьем году рождался заново. Для какой жизни? Одному Богу известно. Кто же в день рождения знает свое предназначение?
А потом я вдруг почувствовал – умер. И больше я не застану его в живых, теперь мне не придется заглядывать ему в глаза, терпеть его презрительный взгляд, унылые претензии, застоявшиеся обиды. Наконец-то я мог поехать. Я знал: Гумерсинда на месте и утрясет наши дела. Сразу после его смерти в доме побывали толпы людей. Гаулон, известный своей новой техникой литографии, он, впрочем, позднее помог мне с завещанием, позвал какого-то де Торре, чтоб тот нарисовал старого барсука на ложе смерти; я видел набросок, ничего особенного, но они, безусловно, зашибут деньгу на клише. Какой-то купец, которого он когда-то написал, заплатил за похороны, Молина зарегистрировал смерть в мэрии, правда, ошибся в возрасте, ну да Бог с ним. Гумерсинда выбрала для глухаря место на кладбище картезианцев, рядом со своим отцом; почему бы и нет, не подерутся, я думаю. И занялась остальным: приняла консула, которому надлежало засвидетельствовать смерть и подтвердить личность умершего, купила у францисканцев монашеское облачение, ибо старик хотел, чтоб его похоронили в коричневой рясе, дополнительно оплатила плакальщиц (как раз без этого можно было обойтись) и все время успокаивала эту женщину, что, мол, как только я приеду, все образуется и мы честно поделим наследство. Ну и поделили. Перво-наперво я разыскал пистолеты, я был уверен, что это ценные вещи, высокого класса; отец отличался великолепным вкусом, если речь шла о всяческом оружии, с помощью которого можно застрелить, заколоть или зарезать живое существо, вскрыть ему жилы, раскроить череп, – тут денег он не жалел. Позже занялся серебром, что вполне естественно, хорошо, хоть прислуга позаботилась о нем как полагается и до моего приезда ничего не пропало; только одна тарелочка куда-то запропастилась. Но кто-то вспомнил, что лежит она возле постели, на которой умирал старик. Я пошел наверх – ложе уже было застлано, а посредине лежал маленький увядший букетик, наверно, Росарио положила. Я взял тарелочку и с минуту постоял. Я думал о нем. О том, что он не выносил сентиментальных жестов и никогда не рисовал цветов. Пожелай она сделать ему приятное, ей следовало бы положить цесарку со свернутой шеей, телячью голову с содранной шкурой, что-нибудь из того, что он мог бы написать, – да разве благопристойной глупой девице со своими изощренными нудными штришками понять такое?! Цветочки-василечки. Эх! Взял я тарелочку, спустился на кухню и проследил, чтоб все было как следует упаковано и выслано в Мадрид.
А потом пошел к той женщине и сказал ей, довольно-таки сухо и вразумительно, ведь я же не собирался устраивать сцен или наслаждаться ее упадком, не собирался и признаваться, что для меня это в каком-то смысле победа; поэтому я сказал ей сухо, доходчиво и, как мне кажется, весьма великодушно: «Вы находитесь в чужой стране и, быть может, захотите вернуться на родину; вот вам платежное поручение на тысячу франков, этого должно хватить». Так и хотелось добавить что-нибудь типа: муж, мол, наверняка ждет вас с нетерпением, но это было бы подло. «Мебель и одежду можете оставить себе», – только и добавил. Она начала что-то там лепетать, что-де ищет дешевую квартиру, но ведь Франсиско собирался указать ее в завещании, и такая запись имеется, а к тому же фортепиано, его придется продать, а это страшно огорчит Росарио – говорила она несвязно, путаясь в мыслях, я стоял (а что прикажете делать?), держа двумя пальцами бумажку на тысячу франков; в конце концов сунул ей в руку и сказал: «Если есть какая-либо запись насчет вас, будьте любезны, найдите ее и обязательно отнесите нотариусу. А сейчас прошу извинить, у меня дела». И поклонился, но без всякой чопорности, просто приложил руку к полям шляпы и вышел. Квартира была оплачена до конца месяца, и всем нам следовало как можно быстрее отсюда съехать, вот я и пошел искать какую-нибудь приличную гостиницу, в которой мы с Гумерсиндой и Мариано могли бы остановиться.
XXIII. Собака [91]
Она одна. Совершенно одна. Одинокая собака несчастна. Некоторые считают, что она тонет в зыбучих песках, другие – что лишь высовывает голову из-за сожженного солнцем пригорка; но собаке-то все равно, тонет она или бежит по бесконечной прожаренной земле, по раскаленному пеплу. Ибо ей вообще все равно.
Даже если с большой точностью высчитать поверхность головы собаки – ее отвисшего уха, видимого кусочка шеи, черного пятнышка обнюхивающего носа и белого, исполненного тоски пятнышка глаза – и если посмотреть, сколько раз эта поверхность помещается на глади безбрежного холма с его грязновато-коричневатой ван-дейковской колористикой, с охристой, разбеленной палящим солнцем (и чуточкой свинцовых белил) землей, даже если разделить все это огромное пустое пространство на отсутствие пустого пространства, то есть на поверхность головы одинокой собаки, то и так невозможно осознать, как она страдает.
Мир разнолик, запахов великое множество – и тех, что расползаются низко, по самой земле, и тех, что несет ветер. Благоухание кожаного ремня, пощипывающий ноздри смрад пороха и легкая духовитая струйка – это застреленная утка падает откуда-то сверху и с сухим треском шлепается в редкие заросли; целый букет вони и ароматов, исходящих от города: сточные канавы, наодеколоненные шеи, подгнивающие на солнце кочаны капусты на лотках, спелые дыни, готовые потрескаться от обилия сока, кровь у мясников, тошнотворная, дикая, широкой струей стекающая в каменный желоб и далее, на улицу; и те благовония, что совсем близко: крот, выжженные травы, ботинки хозяина, который вновь поднимает ружье и прицеливается в утку; мир разнолик – а все-таки без запаха он как бы лишен выразительности, неинтересен, будто плоская стена. Ноздри, те, что могли разрисовать всю карту окрестностей с ее постоянными точками (меченной другими дворнягами каменной оградой хозяйства, шибающими ладаном воротами церкви, дубильной мастерской над ручьем) и перемещающимися (псами, котами, коровами, гонимыми по белой от жары дороге, людьми с их всевозможной вонью), – теперь эти ноздри бессильны; иногда говорят, что отчаяние лишает человека чувств, он перестает видеть, слышать, осязать и обонять, и если оно лишает их человека, так почему бы не лишало собаку?
Похожие книги на "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя", Денель Яцек
Денель Яцек читать все книги автора по порядку
Денель Яцек - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.