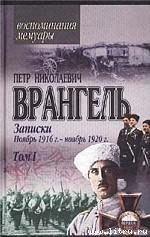Князь. Записки стукача - Радзинский Эдвард Станиславович
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
Достоевские в Женеве занимали дешевую квартирку в доходном доме.
Я видел своего нового родственника впервые. Он был среднего роста, к тому же горбился. Жидкие редкие волосы, будто прилипшие ко лбу, желтое нездоровое лицо. Выглядел усталым, и в мои тогдашние годы он показался мне невозможно старым.
Нечаев представился Сергеем Орловым, русским студентом, изучающим право в Женевском университете.
Принесли чай. Аня спросила меня для вежливости о тетке.
– Мы хотели вместе ехать в Париж. Но она вернулась в Россию, а я вот путешествую.
– В Париже сейчас пыль и жара, – сказала Аня. – Мы с Федей оттуда бежали в Италию, но там оказалось тоже нестерпимо жарко и начинается холера. Теперь мы с Федей решили жить в Германии – ездить по разным местам, выбирая покрасивее местность и получше воздух…
Помню, Достоевский чай не пил. Он молча сидел на диване и внимательно смотрел на нас. Потом глуховатым тихим голосом обратился к Нечаеву:
– Хорошо ездить по заграницам… Все сыты, довольны, главное, лица приветливые, не так ли?
Нечаев промолчал.
– Но приветливы они для себя, – продолжил Федор Михайлович, – а нам-то кажется, что для нас… Право, так! Нет, без родины – страдание, ей-богу! Ехать на полгода, даже на год – еще хорошо. Но ехать, не зная и не ведая, когда воротишься, дурно и тяжело… И здесь к тому же скука.
– Здесь – свобода, – сказал Нечаев.
– Свобода по воскресеньям пить да горланить песни!
Он будто приглашал Нечаева вступить в разговор… Ко мне по-прежнему не обращался.
Но Нечаев опять промолчал. Наконец Федор Михайлович сказал мне:
– Передайте вашим родственникам – я каждый день благодарю Бога за Аню. Она добра, умна и до того привязала меня к себе своею любовью, что, кажется, я бы теперь без нее умер.
Меня эти слова тогда поразили, мне было неприятно, что он говорит такое при Нечаеве. Я еще не знал этой его способности быть пугающе откровенным при чужих людях.
Чтобы как-то поменять разговор, я спросил Федора Михайловича о Тургеневе, которого очень любил.
– Генеральства в нем много, – тихонько засмеялся. – Он, когда с людьми целуется, величественно подставляет щеку… Но Бог с ними, с манерами. Это неважно. Важно, что говорит его герой в последнем романе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве…» Впрочем, может быть, и вы так думаете? – смешок. – Но словечко «нигилист» наш генерал славно придумал. Молодые всегда начинают с бунта. Вот у Шиллера в пьесе «Разбойники» в перечне действующих лиц написано: «Молодые люди, впоследствии разбойники». Молодые должны быть разбойниками. Это я понимаю… Но у нас в России они разбойники вдвойне… – И опять взглянул на Нечаева. И снова мой гувернер промолчал.
Мне показалось, что Федор Михайлович был разочарован. Он явно чего-то ожидал. Причем не от меня – от него. И тогда он сказал:
– Я все хочу написать большой роман о наших молодых людях… Перед отъездом на Невском увидел одного нашего знаменитого писателя. И на мой искрений вопрос: понимает ли он молодое поколение, – он мне прямо ответил, что многое перестал в нем понимать. Хотя уверен, что сей большой ум не только понимает, но и учителей научит. Просто он не хочет понимать. Мне, наоборот, так интересны молодые люди, так понятна эта потребность хватать через край. В замирающем ощущении дойти до пропасти, и не только дойти, а еще свеситься в нее вниз головой, заглянуть в самую бездну… Что вы на это скажете? – он прямо обратился к Нечаеву.
– По мне всё это – словесные выкрутасы… Впрочем, насчет разбойников… воистину, появились сейчас такие, да не вдвойне, а вдесятеро страшнее шиллеровских! Такие кровавые ребята! И если они появляются – значит, общество для них созрело… Страна наша, Федор Михайлович, каковую вы изволите так нежно любить, для молодых ее сыновей – страна страха. Я, к примеру, сколько помню себя, всегда испытывал чувство какой-то виновности. В церкви мне внушали, будто я виноват перед Богом, ибо люблю грешный мир и его удовольствия. Если резвился на улице, боялся полицейского, который только и следит, чтобы схватить. И в школе я был виноват, ибо совсем не жаждал учить уроки… Надо постоянно бояться – вот смысл жизни у нас. Страх, беспокойство, ощущение «виновности» самого вашего существования! С этим чувством у нас рождаются и живут молодые люди… Вот вы насмешничали над Швейцарией, а ведь здесь этого страха-то нет. И знаете, почему нет? Свобода думать есть, свобода иметь любое мнение…
Достоевский хотел что-то ему ответить, но сдержался. Он неотрывно, почти восторженно слушал Нечаева. Нечаев продолжил:
– Осмелюсь спросить: издавали ли ваши сочинения за границей?
– Да нет, пока не издавали…
– А жаль, сочинения ваши прелюбопытные. Вы ведь будущего человека в них изобразили… я о Раскольникове. Я не про его мерехлюндию с раскаянием. Я про его топор. – И, усмехнувшись, добавил: – Мне вот с дьяволом порой приходится разговаривать…
Отчетливо помню: здесь Федор Михайлович даже привстал. Лицо его покрылось испариной… Нечаев преспокойно продолжал:
– Вы знаете, оказалось, дьявол по виду – очень молодой человек… Такой же сюртук модный, как у меня, и даже орхидея в петлице. Когда в первый раз он ко мне пожаловал, я его спросил: «Почему вы ко мне?» Я ведь тогда Закон Божий преподавал в школе… и веровал. А он смеется и почему-то говорит: «К кому, как не к вам приходить! Когда-нибудь это поймете…» Вот вы, Федор Михайлович, часто о Христе упоминаете. А на самом-то деле мы самые великие язычники. У нас все церкви построены на месте языческих храмов, и многие наши церковные святые – это бывшие языческие божки… Господь поселил бесов в стадо свиней. Но им оказалось там неуютно, им в наших людях куда вольготней. – И засмеялся. Смешок у него был какой-то дурной. Откашлялся. – Позволите продолжить? – И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Вы, конечно, помните, Федор Михайлович, нашу былину о борьбе богатыря Святогора с Микулой Селяниновичем? Так вот, он мне первым объяснил смысл этой борьбы…
– Кто объяснил? – почему-то шепотом спросил Федор Михайлович.
– Как кто? Дьявол. Я ведь вам о нем рассказываю… Вы помните, в былине Святогор-богатырь выезжает в чисто поле, чтобы державу себе найти? Никакой державы, конечно, не находит, а встречает на пути плюгавого мужичка с сумой за плечами. Мужичок, увидев его, останавливается, снимает с плеч сумочку и кладет ее на сыру землю. Наезжает Святогор на эту сумочку и рукой своей исполинской тянет ее, но она недвижна. Тогда слезает Святогор с коня, берется за сумочку уже обеими руками богатырскими, понатуживается так, что потом и кровью обливается… Но сумочка мужицкая так недвижной и осталась, а богатырь от натуги по пояс в землю вошел. И в ужасе говорит Святогор: «Ты скажи же мне, мужичок, что в сумочке твоей схоронено?» – «Матерь сыра земля в той сумочке», – отвечает мужичок. – «А ты сам кем будешь?» – «Я Микула Селянинович, сын матери сырой земли». И далее, как помните, побил Микула богатыря Святогора… Святогор – богатырь со Святых Гор. «Так что, – пошептал мне дьявол, – Святогор не что иное, как Христианство, побежденное Землею и языческой правдой Микулы Селяниновича. Вот что такое на самом деле ваша святая Русь». И потом он сказал…
– Кто… сказал?
– Дьявол, Федор Михайлович, я все про дьявола… «Никакое православие Русь от крови не удержит. Кровавый языческий Перун в нас куда сильнее… Его потопили в Днепре, но в душах он не утонул. Так что если кучка героев захватит власть и прикажет крестьянам, вы увидите, они стряхнут и святую Русь, и возлюбленное вами православие, как пушинку с рукава. И знаете, что еще сказал… точнее, показал… Оказывается, возлюбленному нашему народу никакой свободы не надо… Им равенство подавай. Пусть в голоде, в несчастье, но равенство! Чтоб у всех все одинаково… Если рабство – так у всех, не дай Бог, чтоб кто-то был свободен. Если голод, то у всех, не дай Бог, чтоб кто-то был сыт. Равенство… Это и есть русский социализм. Никакого изобилия. Равенство… И дадим мы им это равенство, – так сказал мне дьявол. – А за неравенство будем судить. Главное равенство – в труде. Все трудятся как можно больше, и все потребляют как можно меньше. Труд обязателен под угрозой смерти… Представляете, какое сильное государство создадим, могучее и, главное, счастливое – ибо в нем некому завидовать, все равны! И все общее – общие столовые и общие спальни, общее воспитание, производство, потребление, словом, вся деятельность и жизнь, и даже любовь. Из-за которой столько преступлений… И здесь тоже никаких привилегий – равенство…» – «Это как же?» – посмел я спросить. – «Женщина не смеет отказать уроду, если он её хочет, и писаный красавец не смеет отказать старой горбунье… Равенство, постоянное равенство!» – «Но способности куда деть? – говорю я ему, то бишь дьяволу. – А если он Коперник, допустим, или Цицерон? Как быть с гением?» – «Здесь вы правы, – объяснил мне дьявол. – Здесь вы верно почувствовали. Высшие способности – вот угроза равенству. Так что для равенства – казнят. Цицерон лишится языка, Коперник – глаза… Всё к одному знаменателю, полное равенство…» Бесед у нас с ним, с дьяволом, было много. И, помню, спросил его, почему он ко мне так часто приходит? «Я, – говорит, – ведь тоже нигилист – я ведь восстал в свое время против Бога…» Да и вы, Федор Михайлович, тоже изволили в нигилистах быть. Даже на эшафоте побывали. Не будет ли это бестактностью с моей стороны спросить о впечатлении? Вдруг мне его, то бишь эшафот, тоже посетить придется?..
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
Похожие книги на "Князь. Записки стукача", Радзинский Эдвард Станиславович
Радзинский Эдвард Станиславович читать все книги автора по порядку
Радзинский Эдвард Станиславович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.