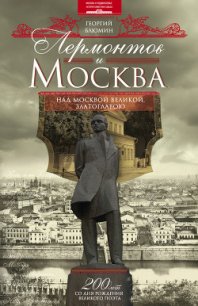Рублевка, скрытая от посторонних глаз. История старинной дороги - Блюмин Георгий Зиновьевич
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 54
Шли годы. В 1825 году хозяин Никольского молодой князь Михаил Николаевич Голицын выписал паспорт своему крепостному человеку Егору Никифорову Страхову. 25-летний русский парень ехал на учение в столицу Франции город Париж. С детства приставленный к иконописной мастерской при храме, Егор снискал признание и славу как великолепный иконописец-копиист. Старые подорожные рассказывают, что в Никольское наведывался знаменитый московский портретист Василий Андреевич Тропинин (тоже в прошлом крепостной) и сам просил князя Голицына отправить Егора Страхова на учение.
И Страхов вполне оправдал оказанное ему высокое покровительство. Он с блеском окончил Парижскую академию художеств! Ему даже предлагалось затем место профессора в этой всемирно известной академии. Но Страхов возвратился на родину, в Никольское, в крепостное свое состояние. Ряд портретов, украшавших зал Большого дома, – его авторские работы. Могила художника у церкви ухожена, она соседствует с княжескими захоронениями, окружена кустами сирени и отмечена памятником. На лицевой стороне написано: «Егор Никифорович Страхов. Род. 7 марта 1800 года. Ск. 22 января 1867 года». А на обратной стороне: «Воздвигнут в память верной и усердной службы». На всей Рублевке более не сохранилось ни одного дворянского, а тем более княжеского некрополя, подобного Николо-Урюпинскому.
Ныне собственно бывшая усадьба в запустении. Приводится в порядок только храм, да воздвигаются частные коттеджи на берегу реки Липки. А известные по архитектурным справочникам Белый домик и Большой дом представляют собой коробки, полностью разоренные внутри. Что еще не было расхищено, продолжает расхищаться. Обратит ли когда-нибудь свое внимание наш Белый дом на наш же Белый домик? Дадим слово князю Феликсу Юсупову, посетившему некогда заброшенную усадьбу своих предков.

Белый домик. Фото В. Вельской
Нет, он рассказывает в своих воспоминаниях не о Никольском-Урюпине, а о другом подмосковном имении, но его слова абсолютно соответствуют тому, что сегодня представляет собой усадьба в Никольском:
«На опушке леса, на возвышении находился дворец с колоннадой. Дом гармонировал с грандиозным ландшафтом. Но когда я приблизился, то пришел в ужас от открывшегося зрелища: не было ничего, кроме руин! Двери и окна исчезли, я шел по мусору с обвалившихся потолков. То там, то сям я находил признаки былого великолепия: мраморная облицовка, тонко вырезанная роспись, или, вернее, следы росписи нежными красками. Я проходил анфиладами залов, один прекрасней другого, где обломки мраморных колонн валялись на земле, как обрубки тела; куски обшивки эбенового, розового и черного дерева, с тонкой инкрустацией, позволяли мне представить, каково было украшение…
Ветер гулял в залах, завывал в толщах стен, пробуждая эхо в руинах дворца, словно желая сказать, что он был там единственным владельцем. Меня охватил тоскливый озноб. Совы, сидевшие на балках, смотрели на меня своими круглыми глазами, как будто говоря: «Смотри, что сталось с жилищем твоих предков!»
Я ушел со стесненным сердцем, думая о непростительных ошибках, которые могут совершать люди, владеющие слишком большими богатствами».
Феликс Юсупов сказал это о своей собственности и о своем богатстве. Я говорю то же самое о «федеральной собственности», то есть собственности России, которая, очевидно, слишком богата, если может себе позволить подобное.
Первое богослужение во вновь обретенном храме села Никольского состоялось 19 декабря 1991 года, в престольный праздник Николы зимнего. Тогда же подняли сброшенные с могил у храма памятники. Те немногие из них, которые уцелели, вновь установили близ церковной стены.
Разговорить камни – задача непростая. Многие буквы стерлись. Вчитываясь в старые надписи, склоняешь голову и тем самым отдаешь дань памяти людям, жившим когда-то на этой земле. Так и шел я по небольшому Никольскому некрополю на взгорье у церкви, от надгробия к надгробию, возвращался назад и вновь вглядывался в истертые временем буквы. И камни заговорили со мной.

Некрополь в Николо-Урюпине
Из дворян, прихожан храма, мы находим надгробие жены надворного советника Елены Никифоровны Прокофьевой, скончавшейся 29 июля 1891 года на 59-м году от рождения. А далее, волею судьбы, на этом давнишнем кладбище у церкви сошлись могилы князей Голицыных, хозяев Никольского-Урюпина, и дворян Хитрово, так же прихожан здешнего храма. Русская дворянская фамилия Хитрово прежде всего вызывает в памяти образ Елизаветы Михайловны, дочери М. И. Кутузова, бывшей во втором браке (с 1811 года) за генерал-майором Николаем Федоровичем Хитрово. На Никольском кладбище нет могилы дочери Кутузова, но есть захоронения родственников ее второго мужа. Читаем: «Действительный статский советник Александр Николаевич Хитрово. 13 мая 1805 г. – 14 декабря 1872 г. Любил, страдал, прощал». Рядом с ним погребена его супруга «Елизавета Николаевна Хитрово, урожденная княжна Вяземская. 12 сентября 1807 – 21 октября 1867». И наконец, рано умерший «лейтенант Андрей Михайлович Хитрово. Род. 6 августа 1872 г. Ск. 24 марта 1900 г.».

Захоронение князей Голицыных в с. Николо-Урюпине
Здесь же похоронен создатель усадьбы князь Николай Алексеевич Голицын (1751–1809) и его сын князь Михаил Николаевич Голицын (1796–1863), который именем своим открывает знаменитую череду «архивных юношей», так памятно воспетых А. С. Пушкиным в романе «Евгений Онегин»:
Речь здесь великий поэт ведет о Московском архиве Коллегии иностранных дел, где сохранялись остатки архива московских великих князей, Царского архива и архива Посольского приказа. Тысячелетняя история России в документах – где, как не здесь, следовало получать исходное образование умным молодым людям из благородных семейств? Позже сюда поступали служить уже по окончании университета. Это была самая интеллигентная и блестящая молодежь Москвы. Среди «архивных юношей» можно назвать природного Рюриковича князя В. Ф. Одоевского, поэта Д. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, братьев Ивана и Петра Киреевских и многих других.
Начинать этот блистательный список довелось князю Михаилу Николаевичу Голицыну (1796–1863). О нем следует сказать здесь несколько слов. Это был самый первый «архивный юноша» (1801–1810), проложивший дорогу всем остальным. Московский архив располагался в Колпачном переулке, неподалеку от Ивановского монастыря, в старинных Голицынских палатах. Князь был причислен к Московскому архиву всего шести лет от роду, а уволился в 14 лет. В свидетельстве, полученном при увольнении, сказано: «При архиве он отличался знаниями языков и наук, занимался переводами и описью дел». Знания, полученные в Московском архиве, были настолько основательными, что он сразу получил назначение в свиту его императорского величества, в квартирмейстерскую часть. Позже работал в Москве ближайшим помощником градоначальника князя Д. В. Голицына и написал о нем книгу.
Князю Михаилу Николаевичу наследовал его сын князь Николай Михайлович Голицын. Надпись на мраморе под крестом на уцелевшем надгробии гласит: «Князь Николай Михайлович Голицын, родился… ноября 1820 года, сконч. 22 марта 1885 года. Княгиня Мария Сергеевна Голицына рожденная Сумарокова, родилась 25 октября 1830, скончалась 24 января 1902». Поблизости – последнее надгробие из сохранившихся, над могилой их сына-наследника, умершего всего 16 лет от роду: «Князь Михаил Николаевич Голицын, 3 октября 1853 – 27 мая 1870».
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 54
Похожие книги на "Рублевка, скрытая от посторонних глаз. История старинной дороги", Блюмин Георгий Зиновьевич
Блюмин Георгий Зиновьевич читать все книги автора по порядку
Блюмин Георгий Зиновьевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.