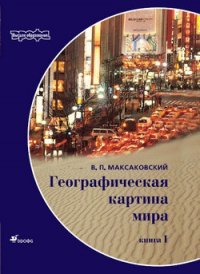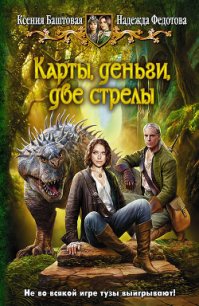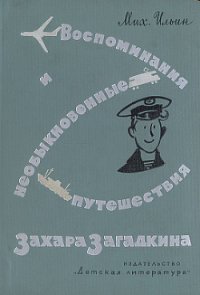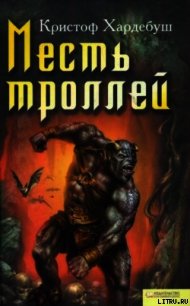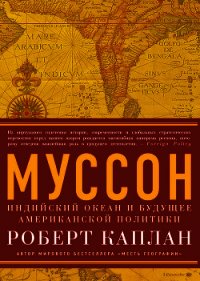Очевидно, что русским нечего стыдиться, так как они могут быть только теми, кем они есть, – народом, который построил империю в жутких условиях континентального ландшафта и климата, и в результате они стучались в ворота Леванта и Индии, угрожая, таким образом, Британской и Французской империям. Как раз в то время, когда Герцен писал вышеприведенные слова, русские брали Ташкент и Самарканд – города на древнем Шелковом пути в Китай, рядом с границами Индийского субконтинента.
В то время как такие морские державы, как Франция и Британская империя, сталкивались со своими врагами за морями, Россия встречалась с врагом на своей собственной территории. Таким образом, русские люди очень рано научились относиться ко всему с подозрением и не терять бдительности. Это нация, которая все время, так или иначе, находилась в состоянии войны.
И вновь Кавказ служит наглядным тому примером в лице мусульман с Северного Кавказа, против которых в конце XVIII в. сражались армии Екатерины II и продолжали сражаться армии следующих царей на протяжении всего XIX в., не говоря уже о конфликтах в наше время. Это происходило гораздо позже того, как более податливые, мирные районы южного Кавказа, такие как, например, православная Грузия, сами присоединились к Российской империи. Воинственность кавказских горцев-мусульман коренится в сложных условиях жизни в горах, где нет плодородной почвы, в необходимости носить оружие, чтоб защитить овец и коз от диких хищных животных. А поскольку через Кавказ проходили многие торговые маршруты, то кавказские горцы были и проводниками, и грабителями. [262] Хотя горцы, исповедуя ислам, являются сторонниками суфизма – наиболее веротерпимого течения в исламе, они все же с яростью защищали свою отчизну от православных славян. «На Кавказе, – пишет географ Дэнис Шоу, – российские, украинские и казацкие переселенцы встречали решительный отпор со стороны горцев. Большинство горцев, за исключением значительной части осетин, по своей вере мусульмане, что укрепляет их решимость сражаться с незваными гостями». Кавказ весьма поспособствовал тому, что имидж Российской империи подпорчен. Такова, как мы уже упоминали, судьба любой континентальной державы, судьба государства-завоевателя.
Россия действовала весьма активно. Именно этот факт и подтолкнул Маккиндера на создание его теории «оси». Маккиндер обратил внимание на необычайный подъем в строительстве железных дорог в России во второй половине XIX в. Так, в промежутке между 1857 и 1882 гг. было построено 24 000 км железных дорог, в результате чего Москва была связана железнодорожным сообщением с Пруссией – на западе, с Нижним Новгородом – на востоке, с Крымом – на юге. Более того, в 1879–1886 гг. российские инженеры построили железнодорожную ветку из Красноводска, на восточном берегу Каспия, до Мерва (сейчас Мары), на границе с Персией и Афганистаном, более чем 800 км на восток. К 1888 г. эта ветка была продлена еще на 500 км до Самарканда, а подъездной путь из Мерва был проложен до границы с Афганистаном. Строительство этих новых железнодорожных артерий империи следовало за военными походами России в пустыни Каракум и Кызылкум, на юг от среднеазиатских степей, на территории современных Туркменистана и Узбекистана. Ввиду близости Индийского субконтинента, где в то время власть Британской империи достигла зенита, такая активность России ввергла ее в «Большую игру» – соперничество с Британской империей за господство в Азии. В то же время была построена железная дорога, которая соединяла Баку, на западном побережье Каспийского моря, с Батуми, на побережье Черного моря, то есть проходила через весь Кавказ. А в 1891 г. было начато строительство Транссибирской железнодорожной магистрали – путей от Урала до Тихого океана – протяженностью около 7000 км, соединившей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Почти на всем протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной местности в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, горы и скалы, районы повышенной заболоченности и вечной мерзлоты.
К 1904 г. по территории России было протянуто более 70 000 км железных дорог. Санкт-Петербург был связан железнодорожным сообщением с 11 часовыми поясами, до самого Берингова пролива, разделяющего Россию и Аляску. Мотивом для такой новой российской версии «предопределения Судьбы», [263] как и прежде, было чувство незащищенности: незащищенности любой сухопутной державы, которая вынуждена нападать сама, разрастаясь во всех направлениях, чтобы не исчезнуть.
Глядя на физическую географическую карту Евразии, сразу замечаешь один факт, который и объясняет российскую историю. От Карпатских гор, что на западе, и до Среднесибирского плоскогорья, что на востоке, находятся одни равнины. И только лишь невысокие Уральские горы, расположенные между ними, несколько возвышаются над этим плоским ландшафтом размером с добрый континент. Эта равнина, которая включает маккиндеровский «Хартленд», простирается от Белого и Карского морей Северного Ледовитого океана до Кавказа и горных массивов Гиндукуш и Загрос в Афганистане и Иране. На протяжении XVII—XX вв. россияне – казаки, торговцы, охотники за пушниной – смело переселялись за Енисей, с Западной Сибири в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, обширное холодное пространство протяженностью 4500 км, с разнообразными ландшафтами и семью высокими горными хребтами, где минусовая температура может держаться 9 месяцев в году. Таким образом в Сибири создалась совершенно новая «северная речная империя». [264] Как отмечает Брюс Линкольн в своей известной книге «The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians» («Завоевание континента: Сибирь и россияне»), «завоевания, которые определили ее [России] могущество, произошли в Азии», а не в Европе. [265] Драма, разыгравшаяся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, подытожила исторический опыт россиян в чрезвычайно жесткой форме. Лонгуэрт пишет:
«Суровость климата сделала их жесткими и выносливыми; огромные территории, низкая плотность населения, краткость сезона вызревания урожая способствовали кооперации и углублению межличностных связей, так как людям, населяющим эти места, необходима была бо?льшая степень организации, чем любому другому народу, просто чтоб выжить… В прошлом такая необходимость выражалась в централизованной и авторитарной формах управления, отрицающих вовлеченность народа в управление». [266]
Енисей – река довольно широкая – до 5 км в ширину. По длине Енисей занимает 6-е место в мире – длина его водного пути (а он течет с юга на север) составляет 5075 км, от Монголии до Арктики. Река эта в гораздо большей степени, чем Уральские горы, имеет основания называться природной границей между «двумя Россиями» – между Западной и Восточной Сибирью, с тысячами километров равнин на левом, западном, берегу и тысячами километров плоскогорья и заснеженных гор – с восточной стороны. Английский путешественник Колин Таброн пишет, что «этот речной поток течет из ниоткуда и несет с собой запах вечности, словно нечто одновременно спокойное и довольно страшное, от чего внутри у меня все сжимается». Находясь уже в другой точке, севернее, за Полярным кругом, он продолжает: «Земля в этих краях делается совершенно плоской. Береговая линия тонет в морских водах. Кажется, что за все века тут вообще ничего не происходило. Так история… становится геологией». [267]
Людей в эти ледяные пустыни вначале привлекла пушнина. Позже это будут природные ресурсы: нефть, газ, уголь, железная руда, золото, медь, графит, алюминий и многие другие полезные ископаемые, равно как и электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями на могучих сибирских реках. Ведь как Енисей делит Сибирь на западную и восточную, так величавая Лена отделяет Восточную Сибирь от российского Дальнего Востока. Более того, в то время как главные сибирские реки текут с юга на север, их притоки тянутся на восток и на запад, «подобно ветвям гигантского дерева», создавая великую транспортную систему. [268]