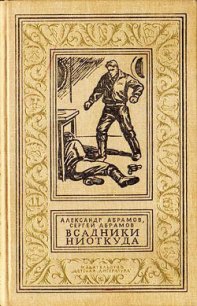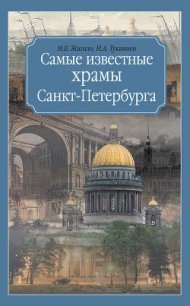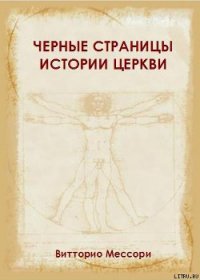Именно так обстояло дело в тех случаях, о которых мы знаем несколько больше, а именно в сформировавшихся в конце XI и в XII в. как родовые некрополи графов Пуату и герцогов Аквитанских церквах монастырей Монтьернеф и Фонтевро. Монтьернеф стал усыпальницей рода Рамнульфидов, приняв прах своего основателя Ги-Жоффруа Гийома и его сына Гийома Трубадура. Фонтевро известен как семейный некрополь Плантагенетов (и, соответственно, имел статус не только графской и герцогской, но и королевской усыпальницы). Там нашли последнее пристанище английский король Генрих Плантагенет, его супруга Алиенор Аквитанская и их дети, среди которых было еще два короля – Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный. Примечательно, что со сменой правящей династии сменилась и церковь, с которой была связана родовая память: Монтьернеф, монастырь, основанный прадедом Алиенор Аквитанской, уступил Фонтевро, расположенному поблизости от границы с Анжу – родиной Генриха Плантагенета. Как сам Генрих, так и другие члены его семьи уделяли повышенное внимание этому монастырю, способствуя его значительной перестройке в XII в. и росту его влиятельности [609].
В поминальных книгах Монтьернеф встречается всего несколько светских имен – все это члены графской семьи, начиная от основателя монастыря Ги-Жоффруа Гийома и заканчивая его правнучкой Алиенор Аквитанской, последней представительницей династии Рамнульфидов [610] (память об Алиенор, ставшей связующим звеном двух династий, таким образом, сохранялась в обеих церквах). Судя по сообщениям хроники, в литургической традиции монастыря особое внимание уделялось почитанию памяти графа, и по некоторым признакам можно судить о том, что эта традиция в Монтьернеф складывалась впервые. Его могила, расположенная изначально в зале капитула, была спустя год перенесена в неф церкви, а затем оформлена как небольшой мавзолей. В день поминовения графа, по свидетельству монаха-хрониста, его надгробие укрывалось драгоценными тканями, и сам аббат служил над ним праздничную мессу [611]. С. Треффор в статье, посвященной мемориальным аспектам архитектуры и литургии Монтьернеф, замечает, что перенос захоронения из зала капитула в неф, скорее всего, связан именно с формированием в это время литургической традиции почитания основателя [612]. Явление не было единичным для региона: примерно в то же время произошло перенесение праха анжуйского графа Жоффруа Мартелла из зала капитула в неф аббатской церкви Сен-Николя в Анжере. Литургическая традиция, формируемая вокруг перенесенной внутрь церкви гробницы сюзерена, дополнялась обрядом легитимации самого графского (герцогского) титула, связанным с передачей титула наследнику: Гийом Тулузец, внук основателя, вступая в наследные права, прежде всего должен был явиться в Монтьернеф, чтобы почтить могилы деда и недавно умершего отца [613]. Такой визит был не просто естественным проявлением скорби по усопшему родственнику, но и жестом приобщения к родовой традиции (здесь стоит вспомнить, пожалуй, об изначальной истории Монтьернеф, основание которого было частью покаянных обетов графа Ги-Жоффруа ради признания наследных прав сына, рожденного от третьей жены [614]). О подобном визите принца Иоанна перед вступлением его на английский престол рассказывается в житии его духовника, Гуго Линкольнского; при этом перед коронацией будущему королю пришлось совершить путешествие из Англии во Францию, в Фонтевро. В тексте жития, составленного спустя столетие после описанных событий, поведение принца (будущего Иоанна Безземельного) описывается как неправедное: явившись к воротам монастыря в отсутствие настоятельницы и получив отказ монахинь, он пытается прорваться в монастырь силой. Этот поступок в интерпретации автора жития выступает своего рода знамением неправедности его правления. Символично, что такое проявление сущности будущего правителя происходит именно у дверей родовой церкви [615].
Монтьернеф и Фонтевро – церкви, связанные с наивысшим кругом аристократии: речь идет о семье графов Пуату и герцогов Аквитании, которые в случае Фонтевро были еще и английскими королями. Конечно, родовая память в таком случае получала наиболее подробное и заметное воплощение, поэтому ее следы и свидетельства о ней дошли до нас. О том, как эта традиция складывалась в кругах менее знатных, но все же осознававших определенную социальную позицию своего рода и чувствовавших необходимость ее сформулировать как нечто незыблемое, судить несколько труднее. Тем не менее она должна была существовать не только в семье графов Пуату, но и у их вассалов.
В случаях Меля и Ольнэ преобразование в родовой храм могло произойти достаточно естественным образом. Церкви, расположенные вне замка, изначально использовались как традиционное место захоронений (согласно раннехристианскому обычаю, могилы должны были выноситься за пределы жилой территории [616]), а затем, когда сложилась соответствующая культурная необходимость, они могли быть осмыслены как семейные некрополи.
Родовая память и паломническая традиция
Предположение о том, что интересующие нас храмы могли быть родовыми некрополями, в которых фиксировалась и поддерживалась память о живых и почивших представителях семьи, и эта память, сохраненная и обнародованная, становилась оправданием и подтверждением их благородного статуса, заставляет еще раз вернуться к теме паломничеств в Сантьяго-да-Компостела. Выше уже говорилось о том, что местоположение церкви на магистральном паломническом пути было осмыслено заказчиками-прелатами мельского храма, для которых этот факт, несомненно, представлял большую важность. Был ли он важен для мирян с их семейными традициями? Думается, что да, хотя в данном случае перспектива осмысления этой важности была иной. Светские сеньоры вряд ли осмысливали феномен паломничеств целиком как таковой, в отличие от клюнийских монахов. Но и они не могли никак не принимать во внимание тот факт, что их церкви постоянно посещались пилигримами.
Здесь стоит сказать несколько слов об особенностях траектории перемещения паломников. В XII в. Турская дорога имела множество ответвлений, и паломники не всегда предпочитали прямой путь. Один из наиболее популярных обходных маршрутов проходил через монастырь Сен-Максен, где хранились мощи святого Лежера [617]. Паломники сворачивали с основного пути в районе Лузиньяна и возвращались на него, проходя через Мель. Примечательно, что отклонившиеся от прямой траектории паломники приходили именно к Мелю. Возможно, в ряде случаев они сознательно выбирали этот маршрут, чтобы вновь вспомнить о святом Иларии и вдобавок остановиться на ночлег. Кроме вышеупомянутого ответвления, паломники могли пользоваться параллельным маршрутом, идущим от Пуатье через Ром и смыкающимся с магистральным путем Турской дороги в районе Бриу – ниже Меля, но выше Ольнэ. Далее вплоть до Сен-Жан д’Анжели дорога не имела ответвлений, и все пилигримы, избравшие своим путем via Turonensis, должны были пройти мимо Ольнэ, не имея других вариантов. Если церковь сама по себе и не привлекала заранее их внимание, миновать ее они не могли. Таким образом, в обоих случаях храмы были расположены на весьма оживленных участках пути. При этом в случае Ольнэ, где у путешественников как будто не могло быть заранее определенных причин для остановки именно у этой церкви, не имея других вариантов маршрута, они, должно быть, нередко заходили туда стихийно, привлеченные красотой и близостью храма. Нужно сказать, что в XIV в. паломникам уже рекомендуется остановка как в Меле, так и в Ольнэ [618]. С этого же времени в земельных кадастрах встречается упоминание о странноприимном доме, расположенном недалеко от церкви Ольнэ – напротив нее, через дорогу [619]. Если в Меле, как мы говорили, можно отметить ряд сознательных действий по превращению церкви в паломнический этап, то в случае Ольнэ традиция остановки сложилась, скорее всего, сама собой и была осмыслена как этап паломнического пути уже впоследствии.