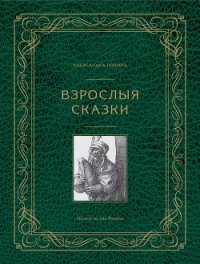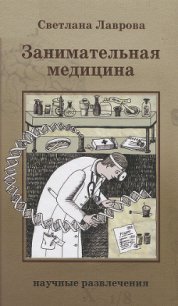Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107
Приписывая травам силы врачевания, говорят, что красивые травы, с цветами, созданы более для красы, чтобы пестрели ими луга и леса, а простые – для врачевания больных и на корм скоту (Вятск. г.). Этот взгляд народа на специфичность каждого отдельного средства против известной болезни наложил на развитие народной медицины совершенно особенные и своеобразные черты. Известно, что в народной фармакологии совершенно отсутствует дозировка и определенный способ приготовления лекарств. Обыкновенно, вместо точного обозначения, просто говорят: «от кашля пей настойку моха старых яблонь на водке» или «пей редечный отвар» и пр. Как общее правило, признаётся, что чем больше доза принимаемого лекарства, чем чаще приёмы и гуще настой, тем лучше и тем скорее наступит выздоровление. С точки зрения народа, это и не может быть иначе. Раз известное лекарство обладает каким-то таинственным, хотя и обратным сродством с болезнью и в состоянии её нейтрализовать, то, конечно, чем скорее произойдет такая нейтрализация, тем лучше.
С точки зрения специфичности лекарства, совершенно излишним является наблюдать также время и периодичность в приёме лекарства, которые в народной медицине, действительно, почти совершенно отсутствуют: при наставлениях, как принимать лекарство, не только не встречается выражения – «пей через столько-то часов или столько-то раз в день», но даже редко употребляются определение – «утром и вечером». Гораздо чаще, для обозначения времени приёма лекарства, употребляется слово «заря»: пить 12 зорь, сидеть над муравьиной кочкой 3 зари и пр. При этом «заря» не соответствует какому-либо точному определению времени, а здесь лишь подчеркивается особенно благоприятное действие лекарства при восходе и заходе солнца. Такое же значение для действия лекарства имеет и состояние луны. Довольно часто встречающееся выражение: «пей на молодом месяце» – указывает на новолуние, как на лучшее время для пользования лекарствами (Орловск. г.).
Понятие о значении дозы и времени в приёме лекарств, в некоторых случаях, заменяется представлением, что действие лекарства будет вернее, если прибрести его в нечетном количестве золотников, на нечетное число копеек и употреблять тайком (Саратовск. г.).
Иногда особенное значение получает известный способ употребления лекарства: цитварное семя, например, действует при глистах лучше всего, если принимать его под открытым небом или в недостроенной избе, на потолке которой нет земли [313] (Новгородск. г.).
Действие всякого лекарства будет вернее и лучше, если чашку или ложку, из которых оно принимается, опрокинуть вверх дном, притом непременно позади себя, если оно глистогонное: тогда глисты пойдут не через рот, а низом (Нижегородск. и Саратовск. гг.). Все эти данные указывают, что народному эмпиризму, помимо его простоты и первобытности, не достает законченности и отчетливости и он, в своем даже более или менее чистом виде, не свободен от суеверного оттенка.
Что же касается состава крестьянской фармакологии, то она почти сплошь состоит из средств растительного царства, как более доступного и близкого народу, разного рода кореньев, трав, ягод, овощей и пр., – реже средства эти животного и минерального происхождения и еще реже аптечного, вошедшие в народное употребление в последнее время. Из аптечных препаратов большее распространение имеют летучая мазь, нашатырный и камфарный спирты, карболка, хинин, разного рода капли и пр. Все эти средства, бесспорно, являются положительным приобретением народной медицины и обязаны своим распространением влиянию земской медицины. Но наряду с этим нельзя не отметить утраты деревенской фармакологией многих растительных средств и их названий, совершившееся в последние 30–40 лет. В то время как число растений, употреблявшихся народом прежде, по Далю, Анненкову, Дерикеру и др., нужно считать многими сотнями и даже тысячами, число их, по указаниям наших сотрудников, едва достигает 150. Некоторые из этих названий, неизвестные прежде, едва ли относятся к каким-либо новым травам и, по-видимому, образовались взамен старых, утраченных понятий. Названия эти не имеют ботанического характера определений прежнего времени [314], они или грубы, или одноименны с теми болезнями, против которых употребляются. Такова, напр., «нечисть-трава», в отваре которой моют детей от «чёсу», «обжорная трава», настой которой употребляется для аппетита (Казанск. г.), «лиховая» – от зубной боли (Рязанск. г.), «замайковая» – при кори, «колун», или «усовая трава» – при колотье в боку (Новгородск. г.), «уразная» при ушибе (Вологодск. г.), «литячечная» трава применяется при «литячках» на лице у детей (Казанск. г.) и пр. Потеря этих названий и совершенная утрата понятий о многих целебных растениях, оставшихся не исследованными и, быть может, ценных, особенно в виду стойкости суеверных приёмов лечения и сохранения многих способов грубых и вредных, без сомнения, есть явление неблагоприятное и едва ли желательное: в народной медицине, по-видимому, совершается та же эволюция, какая происходит в народной поэзии с песней.
А. Универсальные средства
Баня искони веков считалась хорошим средством и до настоящего времени применяется в начальных периодах очень многих заболеваний [315].
Пожарче натопить баню, взобраться на полок, попариться и хорошенько «пропреть», – приём настолько установившийся, что он иногда предпочитается всяким другим лекарствам, а при болезнях детей нередко считается единственным. Если больной не в состоянии добраться до бани сам, его тащат домашние, держат на полке до 1 часа и более и, дожидаясь во всех случаях благодатной испарины, парят, особенно горячечных больных, часто до потери сознания, а в исключительных случаях и до смерти (Вологодск. г.). В большинстве же случаев баня применяется при лёгких заболеваниях. При этом простуда, застой крови, горячка, ломота, «брюхо», чесотка, ушибы и запойное пьянство одинаково требуют бани. Последняя заменяется иногда русской печью. К вечеру, когда печь остынет настолько, что в ней можно терпеть, настилают в печи солому, залезают туда и, закрывшись заслонкой и согнувшись в три погибели, старательно «преют». Паренье в печи применяется и к детям, при чем с ребенком залезает в печь кто-либо из взрослых. Лежанье на теплой или горячей печи, под шубами и полушубками, даже для заболевшего горячкой, считается наиболее полезным и является как бы традиционным содержанием больного. Особенное значение такое лежанье приобретает при болях живота, когда, на голой печи, лежат продолжительное время животом вниз: «жарят живот».
Желая обеспечить наиболее верный выход болезнетворного начала из организма и удовлетворяя своему представлению о застойном происхождении некоторых болезней, народ соединил применение тепла со всевозможными растираниями, значение которых, помимо их механического влияния, заключается в том, что почти всегда они состоят из веществ, раздражающих кожу. Чаще всего это тертая редька, одна, с солью или водкой, редечный сок, хрен, керосин, скипидар, перцовка, нашатырный спирт, беленное масло, летучая мазь и иногда горчица. Для этой же цели, особенно при ломоте, употребляется нередко молодая крапива, которой, обварив ее кипятком, иногда и парятся, вместо веника. Для растирания же служит настой крапивы, смесь её с редечным соком, иногда же сухая крапива, истёртая в порошок. Реже для этой цели употребляется мед с солью и еще реже дёготь, один или в соединении с деревянным маслом и керосином (Калужск., Ярославск. и Псковск. гг.). Очень часты соединения всех этих средств между собою и иногда в самом прихотливом сочетании. Керосин смешивается с водкой и скипидаром, сюда прибавляется соль, свиное сало, деревянное масло и редечный сок, мед соединяется с дёгтем, а патока – с коровьим маслом (Новгородск., Смоленск., Орловск. и др. гг.).