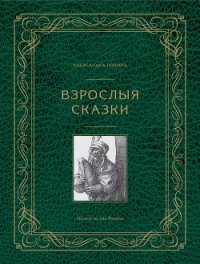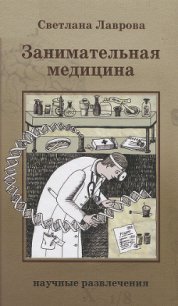Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107
Заставив родильницу встать на четвереньки и опереться руками, они сильно встряхиваюсь ее за лодыжки (Орловск. г. и у.), а иногда прибегают к заговорам: «как на этом месте лежит раба Божия, так бы и в рабе Божей N стоял золотник, с боку на бок не ворочался, не ломил бы он ни заднего прохода, ни переднего» (Кадниковск. у. Вологод. г.). Интересен приговор, употребляющийся, в этих случаях, в некоторых местах Сольвычегодского у. (Вологодск. г.): «сростайся, низ ушка, сустав в сустав, только х…у место оставь».
Помимо всего этого, баня в послеродовом периоде, как и при самых родах, имеет и суеверное значение: здесь можно родильницу и новорожденного схоронить от постороннего глаза. Опасение глаза после родов иногда настолько велико, что в течение некоторого времени стараются скрывать от соседей даже сам факт родов, и всякий, кто нечаянно войдет в дом, где они произошли, старается под благовидным предлогом поскорее ретироваться (Смоленск, г. и у.). В некоторых случаях опасение это доходит до того, что к родильнице первые два-три дня подходит только близкая женщина и муж, а ребенка, раньше трехдневного срока, не показывают даже ему (Бельск. у. Смоленск, г., Порховск. у. Псковск. г.). Период такой особенной восприимчивости родильницы и новорожденного к глазу, в особенности посторонних, в некоторых случаях затягивается на более продолжительное время и доходит иногда до 2–3 недель (Медынск. у. Калужск. г., Борисогл. у. Тамбовск. г.). Стараясь закрывать и не показывать ребенка, сама родильница, если и хорошо себя чувствует, отнюдь не должна обнаруживать своего состояния перед посторонними, а то ее могут оговорить: «вот-де, родила – и не ахти ей» (Тихвинск. у. Новгор. г.).
Суеверный характер послеродовой бани всего больше виден из тех обрядов, которыми она сопровождается. В некоторых местах (Волог. г. и у.), когда родильница идет туда, бабка трет ей лоб солью и приговаривает: «как эта соль не боится ни жару, ни вару, ни опризорищей, ни оговорищей, так бы раба Божья не боялась ни опризорищей, ни оговорищей» и бросает соль на отмашку.
Так как в это время для родильницы, как существа нечистого, и в особенности для новорожденного, который еще не крещен, очень опасна чертова сила [373]), то бабушка, идя с ними в баню, берет и несет впереди себя икону (Алатырск. у. Симбирск, г.). Поэтому же бабка крестит все углы и печку в бане и не перестает во время мытья младенца твердить: «ангелы с тобой, хранители с тобой», – не снимая при этом даже креста с родильницы, хотя и грешно мыться, когда он на шее (Сольвыч. у. Вологодск. г.) [374]). Но едва ли не всего больше суеверный характер бани доказывается той церемонией, с которой ходит родильница в баню в некоторых местах Вытегорского у. (Олонецк. г.). Бабка, с новорожденным и сковородником в руке, идет впереди, а за ней, с ножницами в руках, родильница. Подойдя к банным дверям, бабка, со словами, «благослови, Господи», делает на дверях три креста и передает сковородник родильнице. Та берет его в правую руку и, входя в баню, им подпирается, а в левой руке держит ножницы, острием вперед. Вымыв ребенка, для того, чтобы у него всю жизнь было много одежды, еды и денег, бабка вытирает его тряпкой, в которой были завернуты клочок шерсти от барашка, выстриженного в первый раз, яйцо от молодой курицы и серебряная монета. По возвращении из бани, тряпочка со всеми этими предметами и ножницы кладутся в изголовье ребенку, а сковородник родильница держит около своей постели.
Убеждение, что родильница, кусая ворот своей рубахи, всего лучше в бане может «загрызть грыжу» новорожденному (Инсарск. у. Пензенск. г.), умывание новорожденного и родильницы, после каждой из трех бань, водой, пропущенной сквозь банную каменницу (Нижнеломовск. у. Пензенск. г.), мнение, что до окончатся 3-ей бани родильница не должна кормить ребенка (Орловск. у. Вятск. г.), уверенность, что родильница скорее поправится после родов, если первую баню истопить тележною осью (Никольск. у. Волог. г.), – все эти и т. п. предрассудки, как нельзя больше, подтверждают суеверное значение, которое во многих местах сохранила за собой послеродовая баня. Помимо этого, баня имеет еще и то значение для родильницы, что ею определяется то время, в течение которого женщина «отдыхает» после родов. Так как для нее обязательны три бани, то вот почему, в большинстве случаев, 3-й и 4-й день после родов являются обычными днями, когда родильница не только встает, но и принимается за домашние, а нередко и полевые работы [375]). Но и этот срок покоя родильницы иногда сокращается до того, что она, при нужде, на другой, а то и в день родов, если роды были благополучны и родильница в семье одна, уже начинает стряпать, носить дрова, топить печь, доить коров и т. п. [376]). Гораздо реже покой родильницы продолжается до конца 1-й недели и еще реже до 10 или 14 дней [377]). Причины, видоизменяющие этот срок, те же, которые влияют на положение беременной до родов: богатство и достаток семьи, количество рабочих рук в ней и пр. Вообще, положение родильницы после родов вполне соответствует положению беременной до родов: родильница тем скорее приступает к работе, чем ближе к родам и незадолго до них она кончала работу.
По-видимому, отношение к родившей в крестьянской среде еще менее сочувственно и отзывчиво, чем отношение к беременной. Хотя и здесь выступает иногда соображение, что родильницу нельзя «неволить» к работе, так как у ней может «оторваться живот», но часто, особенно в страдную пору, домашние чуть не со злостью смотрят на родившую за то, что она не работница (Нижнеломов. у. Пенз. г., Орловск. г. и у.). «Крестьяне не смотрят на родильницу, как на больного человека, и потому не дают ей прохлаждаться после родов», – характеризует это отношение к родильнице один из сотрудников (Галич, у. Костром, г.). – «Эка беда какая, – ворчат старики, – вытряхнула ребенка да и норовит лежать дней пять безо всякого дела» (Карачевск. у. Орловск.). – «Просто беда, не ко времени бабу разорвало», – жалуется муж, когда, при спешной работе в доме, жена пролежит в бане без дела дня два (Черепов, у. Новгородск. г.). «Вот, пригадала, когда рожать, – ругается свекровь, – ни себе, ни другим покою нет: разве мы царицы какие, чтобы по целой неделе лежать после родов?» – «И что это у него за жена?» – удивляются соседи: – после родов, никак, с месяц вылежала» (Нижнеломовск. у. Пензенск. г.).
Пособия обмершим детям. Исправление новорожденного и уход за ним. Приметы.
Обмерших детей бабки опускают на несколько секунд в холодную воду и бьют ладонями по ягодицам, а если эти приемы не помогают, присоединяют к ним нечто в роде искусственного дыхания: берут ребенка за ножки и опускают вниз головой, повторяя этот прием несколько раз. Иногда дуют в задний проход, качают ребенка над зажженным помелом, давая попадать дыму в ротик и ноздри, и вводят в нос гусиное перо (Пошехонск. у. Ярослав, г., Кадник. у. Волог. г.). Иногда бабка жжет над ребенком бумагу и при этом приговаривает: «жив Господь на небесах, жива душа в теле», – добавляя каждый раз к приговору имена его отца и матери (Болховск. у. Орловск. г.). Можно обмершего ребенка также и «откричать». Для этого бабка, качая ребенка, выкрикивает имя его отца, которое хором повторяют за ней сам отец и все присутствующее (Зарайск, у. Рязанск. г.).
После чистки и мытья ребенка следует его «выправление». Стараясь сделать более округлою голову, бабки сильно сжимают ее, в поперечном или косом направлении, от подбородка до макушки, сдавливают двумя пальцами или вытягивают слишком широкий или приподнятый нос, стягивают, выгибают и туго бинтуют кривые ноги. Также старательно «изничтожают» они часто встречающуюся головную опухоль новорожденных [378]) и, находя у них грудные соски припухшими, предполагают в них молоко и усиленно сосут губами. Такое исправление ребенка обыкновенно проделывается только в самое первое время после родов, пока дитя «парено», но нередко производится в течение всей первой: недели, а иногда продолжается до 6 недель [379]).