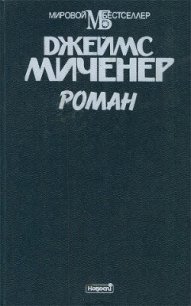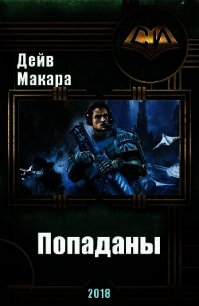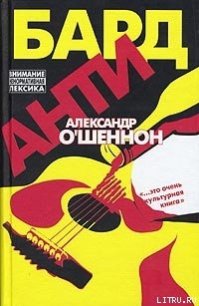Книгоедство - Етоев Александр Васильевич
Ф
В Китае Гумилев не был Был в Африке, был в Европе, а до Китая не смог добраться И так ему за это было обидно, что он взял однажды в руки перо и написал про Китай книжку Называется она «Фарфоровый павильон» Это очень интересная книжка. Я ее помню с детства. Когда мы выпиваем с друзьями где-нибудь возле озера, на природе, я всегда после третьей рюмки цитирую из нее любимые строки. Эти:
И эти:
А затем, когда выпито уже достаточно много, я подхожу к какой-нибудь незнакомой девушке и тихонько ей напеваю на ухо:
Некоторые отвечают взаимностью, большинство же смотрят на меня как на психа или маньяка и пресекают мои сексуальные домогательства отнюдь не поэтическими словами.
Перед тем как рассказать об академике Александре Ферсмане и его книгах, позволю себе процитировать отрывок из сочинения профессора истории и члена Санкт-Петербургской Академии наук Ле Руа «Приключения четырех российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных», впервые изданного на немецком языке в 1760 году и неоднократно переводившегося на русский:
Почти в середине сего острова находится жирная земля или глина, из чего с нарочитою вероятностью заключить можно, что прежде в оной земле была железная руда или со временем оная окажется, а может быть и теперь, ежели бы начать копать, она нашлась.
В примечаниях к сочинению Ле Руа дается комментарий этого места книги, принадлежащий профессору С В. Обручеву, автору «Плутонии» и «Земли Санникова»:
Вероятно, здесь имеется в виду железная сметана – тонкочешуйчатая разновидность железного блеска, мягкая и жирная на ощупь, охристый красный железняк или какие-нибудь охристые железистые глины О-в Эдж сложен свитами триаса, но ввиду наличия здесь интрузий диабаза возможно и нахождение железных руд, связанных с ними; не исключена возможность находки пластов сидерита и в триасе Все эти руды при выветривании могут дать охристые массы.
Так вот, для простого читателя, каким являюсь, например, я, нужно давать дополнительный комментарий к комментарию, мной процитированному. И лучшим комментатором, который бы мне помог, является академик Ферсман и его книги. Он знает про камень все Мало того, в самом описании минерального мира, переданном словами Ферсмана, заключена самая настоящая живая поэзия, данная непосредственно, а не высосанная из пальца. Вот топаз: «бесцветный или винно-желтый, золотисто-желтый, оранжевый, розовый, голубоватый, зеленоватый, синеватый» Вот солнечный камень, «проросший тонкими чешуйками железного блеска». «Винно-желтый», «проросший чешуйками»… Этим словам место в поэзии Мандельштама и Гумилева. То есть я хочу сказать что: книги Ферсмана это поэзия камня, и читать их можно не только с познавательной целью, но и просто как стихи или хорошую прозу
Самое точное и замечательное название к сборнику своих сочинений придумал поэт Иннокентий Анненский – «Тихие песни». Перечитывая недавно Фета, я подумал, что это определение Анненского как никакое другое подходит к автору «Вечерних огней». И я не понимаю Осипа Мандельштама, написавшего про «жирный, больной одышкой карандаш» Фета Сихи его (Фета Впрочем, и Мандельштама тоже) состоят из воздуха, земли и воды – то есть из тех животворящих начал, которые составляют всякую настоящую поэзию. «Тихого» поэта Фета я читаю выборочно У него хороши строчки, а не стихотворение в целом.
Вот очень короткая выборка из того, что нравится:
(Эх, шутка-молодость!…)
Персты румяные, бледнея, подлиннеют…
(«Ее не знает свет…»)
Люблю ее степей алмазные снега…
(«Тебе в молчании я простираю руку…»)
И так далее
Хорошо о Фете написал Георгий Адамович в своей книге «Комментарии»:
Краска стыда на лице у Фета Впрочем не Фета подлинного, не Афанасия Афанасиевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по-новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен в пику Некрасову, то есть Фета как олицетворение поэтичной поэзии, со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами, за которых он частично ответствен.
Курсив в выписанной цитате – мой. Прочесть и перечесть по-новому! Фет этого стоит.
Кстати, о Марине Цветаевой. Самое ее любимое стихотворение во всей (!) русской поэзии было фетовское: «Сияла ночь. Луной был полон сад…».
«Никогда не доверяйте симпатичным людям. Надо доверять только несимпатичным.»
Этот афоризм принадлежит большому русскому поэту и автору одного из самых сильных романов русской литературы Федору Кузьмичу Сологубу
Когда вышел первым изданием «Мелкий бес», Сологуб, как вспоминал Добужинский, «имел весьма патриархальный вид лысого деда с седой бородой, что как раз не вязалось с изысканностью и греховностью его стихов и было, в сущности, его загадочной маской»
«Тогдашний облик, – вспоминает художник далее, – мне больше был по душе, чем тот, который он принял несколько лет спустя, когда уже был женат на Настасье Чеботаревской Он стал бритым, причем обнаружилась большая бородавка у носа».
Эта бородавка, кстати, хорошо видна на портрете Ф.Сологуба работы К. Сомова, который сам поэт считал лучшим своим портретом («Там я совсем похож»).
Сологуб много кого и чего не любил в литературе и в жизни Блока («хороший поэт, но не русский, – немец»), Щедрина (не было более бранного слова для Сологуба, чем Щедрин), Андрея Белого, роман которого «Петербург» он на дух не переносил, Рабле и Свифта, которые, со Щедриным наравне, были самыми нелюбимыми у Сологуба писателями, О.Генри…
«Профессионально злой» – назвал Сологуба Вл. Пяст в своей книге воспоминаний
1921 год, год выхода «Фимиамов», был для Сологуба самым трагическим годом всей его жизни 23 сентября жена его, писательница и переводчица Анастасия Чеботаревская, в остром приступе психостении бросилась с дамбы Тучкова моста в реку Ждановку и утонула Нашли ее только весной, когда вскрылся лед. Все это время поэт не верил в гибель жены и каждый день ставил для нее обеденный прибор, ожидая ее возвращения.
«Она отдала мне свою душу, и мою унесла с собою», – напишет он в письме к Мережковскому.
И добавит: «Но как ни тяжело мне, я теперь знаю, что смерти нет.»
И уже умирая, зимою 1927 года, он говорил в бреду: «Она ждет меня, она зовет меня…»
«Для русской литературы 5 декабря 1927 года – такой же день, как 7 августа 1921 года (день смерти А.Блока. – А. Е), – скажет Е Замятин на панихиде по поэту Федору Сологубу. -…В каждом из них мы теряли человека с богато выраженной индивидуальностью, с своими – пусть и очень различными убеждениями, которым каждый из них оставался верен до самого своего конца»
Похожие книги на "Книгоедство", Етоев Александр Васильевич
Етоев Александр Васильевич читать все книги автора по порядку
Етоев Александр Васильевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.