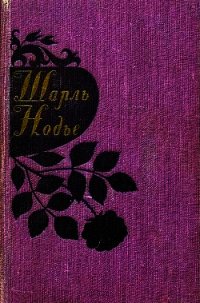Большой психологический словарь - Зинченко В. П.
Особо значимый период в возрастном развитии Л. – подростковый возраст (отрочество) и ранняя юность, когда развивающаяся Л. начинает выделять себя в качестве объекта самопознания и самовоспитания. Первоначально оценивая окружающих, Л. использует опыт подобных оценок, вырабатывая самооценку, которая становится основой самовоспитания. Но потребность в самопознании (прежде всего в осознании своих морально-психологических качеств) не м. б. отождествлена с уходом в мир внутренних переживаний. Рост самосознания, связанный с формированием таких качеств Л., как воля и моральные чувства, способствует возникновению стойких убеждений и идеалов. Необходимость в самосознании и самовоспитании порождается прежде всего тем, что человек должен осознать свои возможности и потребности перед лицом грядущих изменений в его жизни, в его соц. статусе. В случае если между уровнем потребностей Л. и ее возможностями наблюдается существенное расхождение, возникают острые аффективные переживания (см. Аффекты).
В развитии самосознания в юношеском возрасте значительную роль играют суждения др. людей, и прежде всего оценка родителями, педагогами и сверстниками. Это предъявляет серьезные требования к педагогическому такту родителей и учителей, требует индивидуального подхода к каждой развивающейся Л.
Проводимая в РФ с середины 1980-х гг. работа по обновлению системы образования предполагает развитие Л. ребенка, подростка, юноши, демократизацию и гуманизацию учебно-воспитательного процесса во всех типах учебных заведений. Т. о., происходит изменение цели воспитания и обучения, в качестве которой выступает не совокупность знаний, умений и навыков, а свободное развитие Л. человека. Знания, умения и навыки сохраняют свое исключительно важное значение, но уже не как цель, а как средство достижения цели. В этих условиях на первый план выступает задача формирования базовой культуры Л., которая позволила бы устранить в структуре Л. противоречия между технической и гуманитарной культурой, преодолеть отчуждение человека от политики и обеспечить его деятельное включение в новые социально-экономические условия жизни общества. Осуществление этих задач предполагает формирование культуры самоопределения Л., понимание самоценности человеческой жизни, ее индивидуальности и неповторимости. (А. Г. Асмолов, А. В. Петровский)
Добавление: Почти общепринятый перевод слова Л. как рersonality (и наоборот) не вполне адекватен. Рersonality – это, скорее, индивидуальность. В петровские времена персоной называли куклу. Л. – это selfhood, selfness или self, что близко к рус. слову «самость». Более точного эквивалента слову «Л.» в англ. яз. не существует. Неточность перевода далеко не безобидна, ибо у читателей создается впечатление или убеждение, что Л. подлежит тестированию, манипулированию, формированию и пр. Извне сформированная Л. становится наличностью того, кто ее сформировал. Л. не продукт коллектива, адаптации к нему или интеграции в него, а основа коллектива, любой человеческой общности, не являющейся толпой, стадом, стаей или сворой. Общность сильна разнообразием Л., конституирующих ее. Синонимом Л. является ее свобода вместе с чувством вины и ответственности. В этом смысле Л. выше государства, нации, она не склонна к конформизму, хотя не чужда компромисса.
В рос. философской традиции личность есть чудо и миф (А. Ф. Лосев); «Личность же, разумеемая в смысле чистой личности, есть для каждого Я лишь идеал – предел стремлений и самопостроения… Дать же понятие личности невозможно… она непонятна, выходит за пределы всякого понятия, трансцендентна всякому понятию. Можно лишь создать символ коренной характеристики личности… Что же касается до содержания, то оно не м. б. рассудочным, но – лишь непосредственно переживаемым в опыте само-творчества, в деятельном само-построении личности, в тождестве духовного само-познания» (Флоренский П. А.). М. М. Бахтин продолжает мысль Флоренского: когда мы имеем дело с познанием личности, мы должны вообще выйти за пределы субъект-объектных отношений, какими субъект и объект рассматриваются в гносеологии. Это нужно учитывать психологам, использующим странные словосочетания: «субъектность личности», «психологический субъект». По поводу последнего откровенно язвил Г. Г. Шпет: «Психологический “субъект” без вида на жительство и без физиологического организма есть просто выходец из неизвестного нам света… стоит его принять за всамделишного, он непременно втянет еще большее диво – психологическое сказуемое…» Сегодня философски и психологически подозрительные субъекты и их тени заменили “нового человека” и все чаще блуждают по страницам психологической литературы. Бессовестный субъект, бездушный субъект – это, скорее всего, не вполне нормально, но привычно. А душевный, совестливый, одухотворенный субъект – смешно и грустно». Субъекты могут репрезентировать, в т. ч. всякие мерзости, а личность – олицетворяют. Неслучайно Лосев связывал происхождение слова «Л.» с ликом, а не с личиной, персоной, маской. Л., как чудо, как миф, как единственность не нуждается в экстенсивном раскрытии. Бахтин резонно заметил, что Л. может выявить себя в жесте, в слове, в поступке (а может и утонуть). А. А. Ухтомский был, несомненно, прав, говоря, что личность – это функциональный орган индивидуальности, ее состояние. Следует добавить – состояние души и духа, а не почетное пожизненное звание. Она ведь может потерять лицо, исказить свой лик, уронить свое человеческое достоинство, которое усилием берется. Ухтомскому вторил Н. А. Бернштейн, говоря, что Л. – это верховный синтез поведения. Верховный! В Л. достигается интеграция, слияние, гармония внешнего и внутреннего. А там, где есть гармония, наука, в т. ч. и психология, умолкает.
Итак, Л. – это таинственный избыток индивидуальности, ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию. Л. видна сразу и целиком и тем отличается от индивида, свойства которого подлежат раскрытию, испытанию, изучению и оценкам. Л. есть предмет удивления, преклонения, зависти, ненависти; предмет непредвзятого, бескорыстного, понимающего проникновения и художественного изображения. Но не предмет практической заинтересованности, формирования, манипулирования. Сказанное не означает, что психологам противопоказано размышлять о Л. Но размышлять, а не определять или редуцировать ее к иерархии мотивов, совокупности ее потребностей, творчеству, перекрестью деятельностей, аффектам, смыслам, субъекту, индивиду и т. д. и т. п.
Приведем примеры полезных размышлений о Л. А. С. Арсеньев: личность – это человек надежный, слова и дела которого не расходятся друг с другом, который сам свободно решает, что ему делать, и отвечает за результаты своих действий. Личность – это, конечно, бесконечное существо, дышащее телесно и духовно. Для личности характерно осознание конфликта между моралью и нравственностью и первенство последней. Автор настаивает на ценностном, а не монетарно-рыночном измерении Л. Т. М. Буякас выделяет др. черты: личность – это человек, вставший на путь самоопределения, преодолевающий потребность искать опору во внешней поддержке. У личности появляется способность полностью опираться на себя, делать самостоятельный выбор, занимать свою позицию, быть открытой и готовой к любым новым поворотам своего жизненного пути. Л. перестает зависеть от внешних оценок, доверяет себе, находит внутреннюю поддержку в самой себе. Она свободна. Никакое описание Л. не м. б. исчерпывающим. (В. П. Зинченко)
ЛИЧНОСТЬ ТИПА A (англ. type A personality) – личность, для которой характерны высокая потребность в достижении (см. Достижения мотив), честолюбие (амбиция), соревновательное поведение во всех областях жизни (учеба, работа, отдых, любовь), нетерпимость и тенденция к агрессии в случаях фрустрации, более высокая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. См. также Поведение типа А, Соперничество. (Б. М.)
Похожие книги на "Большой психологический словарь", Зинченко В. П.
Зинченко В. П. читать все книги автора по порядку
Зинченко В. П. - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.
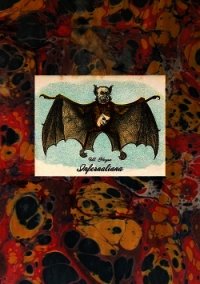
![Русский орфографический словарь [А-Н] - Лопатин Владимир Владимирович](https://cdn.mir-knigi.info/books/16849/16849.jpg)