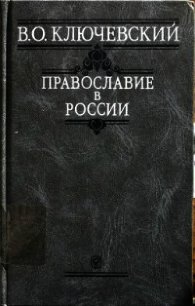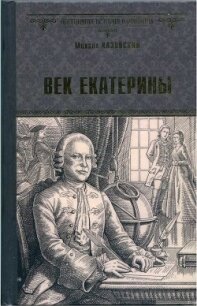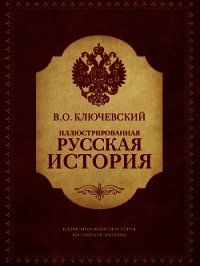Великая. История Екатерины II - Ключевский Василий Осипович
<…> Обозрим для полноты самый «Наказ» Екатерины, из которого видно будет, как высоко стояла она в идеях о потребности общего благосостояния. Отделив в «Наказе» постановления, составляющие, так сказать, рамки, скелет государственного тела, мы получим из всего остального полную картину, как глядела монархиня на подданных, видя в них людей.
Законы признает она равными для всех, и свободу определяет фразою «право все то делать, что законы дозволяют»… а не дозволяют они только вредного «или каждому особенному или всему обществу», потому под хорошими законами разумеет только такие, которые в подданном производят уверенность, «что он ради собственной своей пользы стараться должен сохранить (их) нерушимыми». Определяя, что «законоположение должно применять к народному умствованию», Екатерина признает, что и для лучших законов следует приготовить умы; только не следует это приготовление ставить в отговорку Разделяя закон от обычая, она не советует обычаи отменять законами, а исправлять ими только вред, от законов же происходящий. Перемене же обычаев оставить все вошедшее в обычаи, а изменение их зависит от усиления обоюдных сообщений между народами. «Закон, – говорит далее Екатерина II, – не происходит единственно от власти» и вещи «между добрыми и злыми средние по своему естеству не подлежат законам». Всякое наказание, которое «не по необходимости налагается, есть тиранское», потому что «умеренность управляет людьми, а не выступление из меры». Преступления разделяет она на два главные рода: нарушающие безопасность жизни граждан или только спокойствие их. Только в первом случае имеют место казни, во всех же других видах – меры предохранительные и исправительные. Умеренность наказаний скорее, по мнению ее, приводит к цели, чем жестокость, правда, сильно поражающая воображение вначале, но потом страх уменьшается, так что приходится установлять «во всех случаях другое». Убеждая последовать «природе, давшей человеку стыд вместо бича», Екатерина говорит в «Наказе»: пускай самая большая часть наказания будет «бесчестие, в претерпении наказания заключающееся». От суровости, говорит она далее, по уврачевании зла «порок в общенародии остается; умы народа испортились: они приобвыкли к насильству». Уврачевать это полагает она «непрерывным продолжением благополучия и сладкого спокойствия»; в заключение же решает, что «все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно отменить». В главе IX о производстве суда вообще говорится: «Власть судейская – для того, чтобы сомнения не было о свободе и безопасности граждан»; что «ответчика должно слушать не только для узнания дела, но и для того еще, чтоб он себя защищал», «защищать» же, далее говорится, «значит не что иное, как представлять суду в пользу ответчика все то, чем его оправдать можно». Кто не согласится в глубоком знании законодательницею сердца человеческого, читая положение: «употребление пытки противно здоровому естественному рассуждению» (123) или «делати присягу чрез частое употребление весьма общею не что иное есть, как разрушать силу ее» (125). «Хотите ли предупредить преступления? – сделайте, чтоб законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особо гражданину (243); сделайте, чтоб люди боялись законов и никого бы, кроме их, не боялись (244). Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми (245)».
От общих, кратких начал законодательства переходя к условиям чисто местным, в главах XII–XVII законодательница касается особенностей отечественного быта. Остановившись на мысли о малом населении России, сравнительно с пространством, Екатерина прямо относит вину этого к бедности родителей и дурному обращению с детьми в крестьянстве, отчего умирают 3/4 детей, не достигнув совершеннолетия. Держание крестьян на оброке 1–5 руб. с души (что по времени было страшною цифрою) полагает Екатерина одною из причин уменьшения народа и земледелия. Для устранения этого она находит нужным обязать владельцев в расположении поборов действовать с большим рассмотрением. При этом как разительную, дошедшую до нее подробность приводит она: «а ныне иный земледелец лет пятнадцать дома своего не видит, а всякий платит помещику свой оброк, промышляя в отдаленных от своего дома городах, и обходя по всему почти государству» (271). Грустное положение простолюдинов привело законодательницу к двум верным выводам: везде, где есть место, в которых могут жить, «тут люди умножаются» (274), и «люди не для иного чего убоги, как только, что живут под тяжкими законами, и земли свои почитают – за предлог к удручению… сами для себя не имеют пропитания; так как им можно подумать от оного уделить еще своему потомству?» (276). Тут же, впрочем, представляя при таких условиях обратное положение – достатка, она рисует черты невежества. Дознано, что «они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтоб богатство не навлекало на них гонения и притеснений» (276). Поставив положение (287), что «воздержание народное служит к умножению оного», монархиня рассматривает вопрос о сочетании родителями детей и, приведя тут же случай, выведенный из опыта, спрашивает: что «из него выдет, если притеснение и сребролюбие дойдут до того, что присвоят себе неправильным обзором власть отцовскую?» Ответ заключается в мнении: «надлежало бы отцов поощряти, чтоб детей своих браком сочетовали» (намеки, вероятно, на власть помещичью). Чрезвычайно меткое положение встречаем мы далее (глава XIII, о рукоделье и торговле): «не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного». Предполагая давать награды земледельцам, «поле свое в лучшее пред прочими приведшим состояние», также «и рукоделам, употребившим в трудах своих рачение превосходнейшее» (300 и 301), слова «не худо бы было» показывают, что сама законодательница не была уверена в действительности одних этих средств. Параграфы о воспитании – дополнение к проекту Бецкого, в приложении к частным лицам, конечно, только в главных, основных чертах. Рассуждая о правах дворянства, Екатерина изрекла: «добродетель с заслугою возводит людей на степень дворянства» (363); естественно после этого, что «добродетель и честь должны быть оному правилами, предписывающими любовь к отечеству, ревность к службе, послушанье и верность к государю, и беспрестанно внушающими не делать никогда бесчинного дела». В заключение приведем еще одно положение. «Род людей, от которого государство добра много ожидает, если твердое на добро и поощрении к трудолюбию основанное положение получит, есть средний», – говорит императрица. Мы уже говорили, что этот-то род, или класс, во всех государствах составляющий людей, по преимуществу развитых, обязан Екатерине своим образованием. Правда, постановлениями Петра I, а в особенности его Регламентом Главного Магистрата, определены классы городских обывателей регулярных (двух гильдий) и просто граждан (посадских – разночинцев), а сообразно классам права и преимущества, но те и другие не более как в форме запретительной и обязательной, тогда как в жалованной грамоте на права и выгоды городам (26 апреля 1785 г.) развившиеся в промежуток времени от Петра городские сословия получили каждое особые права, соответственно значению в государстве.
Видя в грамоте городам разрешение именно вопросов городских депутатов, равно как в учреждении об управлении губерний, – общих для разных состояний, приходим к мысли, что комиссия уложения, вообще доныне нам мало известная, была совершительницею если не в окончательной форме, данной при публиковании, то самой сущности дела, всех этих благодетельных и не одному своему времени соответствующих постановлений. У нас существовали и мнения о несвоевременном собрании депутатов, и от того будто бы происшедшем неуспехе исполнения ими задачи, но слова Екатерины самой снимают этот упрек с комиссии. Законодательница сама признается, что комиссия об уложении подала ей «свет сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно; она все части закона собрала и разобрала по материям, и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась».
Похожие книги на "Великая. История Екатерины II", Ключевский Василий Осипович
Ключевский Василий Осипович читать все книги автора по порядку
Ключевский Василий Осипович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.